Там зелёные огни по ночам меж стволов разбегаются – что за огни, не знает никто: то ли папоротник цветёт, то ли глаза лесного зверья вспыхивают, то ли леший на игрище кикимор сзывает.
Не живут в стороне той зори утренние: долго солнце в космах еловых плутает, только в полдень в небеса выбирается. А уж выбравшись, так начнёт припекать, что испариной на сосновых стволах смола выступит, будто в русской печи, истомится земляника душистая, полыхнёт сухим жаром хвоя на земле.
Хорошо лето мещёрское! Хорошо лето в деревушке Ласково!
Деревушка махонькая, два десятка домов крохотных, за околицей всё лес да лес.
Жили в той деревушке крохотной испокон веков древолазцы-бортники, ловцы певчих птиц, их жёны, дети и матери. И была среди них, лет семьсот назад, сиротинушка...
Ну какое житьё сиротское? И не то беда, что жилось ей впроголодь – ласки девонька не видела. И не то, что бы не было вовсе ласки в деревне Ласково – на сирот её не хватало (ох, не редки сироты у древолазцев).
Куском хлеба сироту одаривали, кружку молока или кваса, случалось, нацеживали, ну а словом добрым не баловали. К чему слова эти – сыт ими не будешь.
Да и немногословны люди лесные – слов зря на ветер не бросают. Лес не любит говорливых. Не до людских голосов ему, когда листья свои день и ночь шелестят, птицы – неугомоны им всю весну да лето вторят. А по зиме да осени стволы скрипят старые, ветки стучат иззябшие, раздетые, ветры да волки воют.
Нет, не любит голосов людских лес. Заслышав речь человечью, велит зверью затаиться, леших да кикимор на говорунов напускает.
Молчаливы люди лесные и песни поют лишь по праздникам. Не говорили они сироте слов ласковых, детей не учили жалеть её. И дети корили её без устали:
– Ступай, сирота, из хоровода нашего – руки у тебя леденющие!
– Будто лягушки, противные!
– И рубаха твоя до дыр изношена.
– А в косицу, глянь, Аксютушка, нитка портяная вплетена – из онучи, чай, выдернула. И косица, ха-ха, и косица, ха-ха – хвостик крысиный!
– Как у нашей у Аксютушки коса, как у нашей у голубушки длинна, жемчугом оплетена, маслицем намазана.
– Как у нашей у Маланьюшки коса, как у нашей у красавицы пышна, гребнями расчёсана, гривнами увешана.
Стояла сиротинушка одна под кустом ракитовым, что рос у села за околицей, и без слёз про себя плакала: «Хоть бы раз кто из подруженек, хоть бы раз кто из соседушек, из людей посторонних пришлых назвал меня по имени, уж сама забывать его начала».
– Не печалься, Февроньюшка, не кручинься, касатушка, имя твоё не забудется. Добрых слов ещё много наслышишься.
Вздрогнула, огляделась Февроньюшка, кто слова прошептал эти странные. Никого! Только ветер тревожит листы ракитовые.
– За добро платят любовью. На любовь добром откликаются. Дана слову сила могучая. Слово лечит, кровь останавливает.
Испугалась сиротинушка, не дослушала, бросилась от куста прочь. Прибежала в избушку свою сиротскую, забралась на печь, с утра протопленную, да ещё шалаболами прикрылась. Пробрала дрожь Февроньюшку, хоть стояла в ту пору теплынь июньская светлая.
Согрелась па печи, задремала девонька, и привиделся ей сон удивительный. Будто едет по дороге Муромской к деревеньке Ласково разудалый добрый молодец. Конь серый в яблоках, грива косичками заплетена, цветными шнурами украшена, дуга расписная яркая с колокольцами золочёными, саночки лёгонькие, праздничные. А навстречу молодцу целиною снежною идёт, спешит девица, спешит, в сугробы проваливается. И жарко ей, томно ей в тулупчике овчинном, в сапожках лёгоньких. И снять их некогда – упустить боится дружка милого. Плачет в зимнем лесу птица летняя – иволга, кукует в безлистом вещунья кукушечка.
Не видит девицы добрый молодец, гонит коня во всю мочь. Проезжает, проезжает, ах, мимо проезжает девицы! Но нет, резвый конь останавливатся, молодец возвращается, берёт за руки девицу, говорит ей слова ласковые. И мнится Февроньюшке – это ей слова ласковые, это она едет в саночках лёгоньких, это её народ встречает, ей поёт величальную.
Шла-плыла лебедь белая,
Шла-плыла да по озеру,
Шла-плыла и Февроньюшка
Да к застолью весёлому...
Все сильней и сильней греет солнышко, а небо и совсем летнее – далёкое, белёсое, словно молоком разбеленное,– и ракитовый куст молодой листвой обрядиться успел. Под кустом дед Игнат блажит в шубе вывороченной:
– В месяце нюне выпала пороша, с тем дед бабу полюбил, что баба хороша!
«Что за праздник такой в селе Ласково, что за гость со мной в легких саночках?» – удивилась Февроньюшка и тотчас же проснулась.
Темно в горенке, душно в горенке, мышь скребется в углу, скучно, буднично.
– А, знать, вещий сон мне пригрезился, жаль – конца не увидела, лица молодца не запомнила и слова позабыла его добрые. А вот руки его помню теплые, пальцы тонкие, как были у моей маменьки,– говорила сама себе Февроньюшка, только с собой она и разговаривала да ещё с гусятками, когда пасла их у озера. Чужих гусей пасла сиротинушка, своих давно у нее не было.
– Повернусь на правый бочок, как учила маменька, глаза зажмурю крепко-накрепко, быть может, хоть лицо увижу того молодца.
Нет, ничего ей больше не привиделось – до утренних петухов без сна на печи промаялась, поднялась и побежала гусей пасти: гуси серые, гуси белые – сотня матерых с гусятками. Погнала их за околицу, поравнялась с кустом ракитовым, поклонилась ему поясно:
– Благодарствую тебе за слова добрые, за вещий сон!
И услышала в ответ уже безбоязненно:
– Утро доброе, Февроньюшка!
И не стало с той поры дня, чтобы не подошла к кусту сирота поздороваться, о судьбе сиротской поплакаться, не было дня, чтобы не напоила его водой мягкой озерною. Озеро, будто око, круглое, в ресницах рогоза стрельчатых, верстах в двух от деревни раскинулось и звалось по имени её Ласковским. И зимою по снегу глубокому, рыхлому торила Февроньюшка к кусту тропку узкую и, хотя с ним все так же здоровалась, не ждала от него слов приветливых – спал куст.
За любовь к растению дикому, почитай, совсем бесполезному стали звать сироту в селе дурочкой. А богобоязненный староста, заподозрив в нем силу нечистую, решил куст напрочь выкорчевать.
И как сирота ни плакала, ни спасти бы ей друга волшебного, ни вступись за него дед Игнат:
– Не губите ракиту, люди добрые, пусть ни ягод, ни лыка с нее не дождаться нам, но она спасала не раз наше стадо гусиное, наших малых гусятушек от града тяжелого, от ветра холодного, от проливных дождей.
Отстоял дед ракиту, до сих пор зеленеет она у села Ласково. Но не гусей пожалел Игнат старый – бедную дурочку: сколько раз видел, лета, чай, три подряд, как она кусту этому молится. На коленях стоит перед ним, руки в локтях сгибает, как плакальщица. От колен её острых на траве-мураве плешина повытерлась. Не слыхал Игнат, что за слова сирота говорила – шепотом бедная плакалась:
– И зачем только сну я поверила. Знать, не вещий он был, а обманный: растравил мою душу нестойкую, истерзал лишь сердечко слабое. Не по молодцу я тоскую, о человеке добром мечтаю, чтобы не быть мне среди людей одинокою, как одиноким возрос ты, ракитовый куст, в бору сосновом.
– Не кручинься, Февроньюшка, не вдруг сбываются сны вещие. Князь тебе в жизни встретится, встретится – не разминется,– раз за разом шептали листья зелёные, бурые даже веточки голые,– не разминется, не раз-минет-ся...
Пять зим миновало снежных, пять весен пролетело нарядных, и как-то июньским полуднем встретилась сироте старушка. Сидела на проезжей дороге сухонькая, махонькая, в сороке вдовьей, на левое ухо съехавшей, в шушпане кроя невиданного, цвета травы болотной – ситника, в мягких татарских ичигах, тонких, словно лист подорожника, сидела и причитала, не то плакала, не то хихикала.Подошла к ней Февронья, увидела – подвернула ногу старушка пришлая, оступилась на колее, после ливней июньских осклизлой, батожок свой бузиновый выронила. Сама встать не могла с коробом большим заплечным и снять его не могла и барахталась, словно хрущ, на спину перевернутый, и плакала, и смеялась своей неуклюжести.
Подняла её сирота на руки:
– Доверься мне, бабушка, доверься, любезная, отнесу тебя под ракитов куст, полечу твою ноженьку. Не гляди, что нет у меня никаких снадобий – словом тебя вылечу. «Ой, ты, хворь-маята, ой, ты, боль-сухота, ступай прочь! Хромота-ломота, отойди в болото! В черной тине затаись, от старушки отступись!» Не полегчало, бабушка?
– Как не полегчать – полегчало! Да только не от слов заговорных – от рук твоих девичьих, рук не простых – целительных. Сила в них могучая, неизбывная. Омыли тебе, Февроньюшка, руки в младенчестве росой с цветов лазоревых льна кукушкиного, омыли, да переусердствовали – замочили их по локоть, а нужно было чуток персты окропить. Кого захочешь, теперь сможешь ты прикосновением одним поставить на ноги. Носить же – никого не носи – быстро состаришься, иссякнет краса твоя девичья, иссякнет не распустится.
– Речи странные говоришь ты, бабушка, где видано, чтоб кукушкин лен цвел цветами лазоревыми. Иль забыла ты, что кукушкин лен – мох лесной и цветет он цветами сухими невзрачными? Да и брала я не раз в руки гусят малых, зверье лесное разное, и ничего, как видишь, со мной не сделалось.
– И-и, девонька, не каждый день цветет мох цветами лазоревыми, и не всякому дано видеть цветок папоротника. Души у зверья да тварей лесных легкие. Вот взяла ты меня на руки, я на две сотни лет помолодела, а ты на два годочка старше стала. Впредь не расходуй силу рук своих попусту, человека поднимешь – на четыре года старше станешь.
Глядит, глазам не верит Февроньюшка: не старуха перед ней – красна девица, на вербу в цвету похожая. Куда делся шушпан старушачий, сорока вдовья, постолы иноземные? Сарафан золотистый па девице, лапоточки крохотные. Волосы незаплетенные цветами желтыми убраны.
Улыбается девица:
– За то, что меня молодою сделала, назначай любую цену, Февроньюшка.– отплачу с лихвою. Хочешь повязку, жемчугом расшитую, навершник шелковый, колты звездчатые? Много товару в моем коробе – весь бери!
– Не нужны мне, девица щедрая, наряды дорогие – гусей пасти в них не станешь. Не возьму я с тебя платы, ступай, куда шла, в добром здравии. За добро любовью платят, на добро любовью отвечают.
– Благодарствуй, Февроньюшка,– говорит с поклоном девица,– прими тогда тайну мастерства моего. Открою тебе силу лесных цветов, трав, ягод и кореньев.
И принялась девица о них рассказывать, из короба на подол к Февроньюшке цветы и травы выкладывать. Стожок на подоле набрался.
– Не запомнить всего тебе, милая. Ты возьми ещё посох – он на травы укажет. Не простой это стебель бузиновый – в конец его шерсть волчья вложена, три хвоста серой ящерки да ласточкина слюна. Все замазано илом озера Ласковского. Убережет тебя посох чудесный от напастей в пути, от зверя лесного и людей лихих защитит. И ещё запомни травиночку – на прутик безлистый словно лоскутки неба летнего нанизаны. Прутики лазоревые на заре в ручейки собираются. Ручеек к ручейку – озера безводные на межах и холмах в краю нашем мещерском в день пасмурный плещутся.
– Цикорий!
– Да, от стрел вражьих он охраняет, человека и зверя невидимым делает, но лишь один раз в году – нюня двадцать пятого.
– Светлых дней тебе, девица,– обняла её Февроньюшка,– светлых дней тебе щедрая! Век не забуду науки твоей. Назови мне имя твое на прощанье, может, где ещё встретимся, а не встретимся, вспоминать тебя буду, величая.
– Ах, Февроньюшка,– горько усмехнулась девица,– имя мое давно уже забылось – добрых дел я мало делала. Прозывают же меня в народе кикиморой...
– Так это твои глаза зелёные по ночам в чаще лесной светятся? – только спросила Февроньюшка, и уже нет с ней рядом ни красной девицы, ни старушки сухонькой махонькой – качаются на ветру ветки ракиты тонкие, трепещут листья легкие.
– Видно, все это мне померещилось, вздремнула под кустом, сидючи, и привидился сон удивительный. Но откуда тогда цикорий лазоревый? Откуда холщевая ладанка и в ней корень одолень-травы? И этот посох бузиновый? Нет, не почудилось, не померещилось – знаю теперь силу цветов и трав, буду ими хворых пользовать, ставить немощных на ноги. Долгих тебе лет, добрая кикимора!
Закачались сильней на кусте ветки тонкие, затрепетали пуще прежнего листья легкие, прижалась лицом к ним Февроньюшка:
– Прощай, мой волшебный друг, прощай до завтра!
С тех пор не пасла гусей сиротинушка: исцеляла хворых и немощных в деревеньке Ласково, в богатом селе за бором и, говорят, даже – в самом Переяславле Рязанском. И не звали её больше дурочкой и сиротою не кликали – называли за глаза колдуньей, а в глаза льстиво – красавицей, хотя красоты в ней не видели. Да, по правде сказать, красоты этой не было. Сухощавая, высокая, с косой рыжей недлинною, с глазами цвета неба осеннего не могла она взора обрадовать. И стареть начала раньше времени, хотя и не забыла наказа кикиморы. Да разве понапрасну мальчонку на руки возьмешь, когда ему грыжу надо выправить, понапрасну ли лосенка из болота вытащишь, журавля или лебедя из силка вызволишь, старуху хворую на печь поднимешь? Так и набралось Февроньюшке годочков двадцать семь, а сверстницам её Аксинье и Маланье едва шестнадцать сровнялось. Вековухой выглядела, когда начал её вещий сон сбываться.
В краю том зимой ветры дикие наметают сугробы высокие. По лугам и болотам застывшим скользят, в кольца свиваются белыми змеями вьюги. В краю том от мороза январского трещат, стонут сосны могучие. Поросль лесная: кусты и травиночки,– до весны под снегом, не видят света ясного. В дуплах да пнях трухлявых прячутся до тепла духи лесные: лешие и кикиморы. Не горят студеными ночами меж стволов огни зелёные, огни лукавые, веселые. Лишь сверкнут угольями глаза волка голодного, выше сосен поднимется его надсадный вой, расплещется далеко окрест.Трудно, страшно одинокому путнику в зимнем лесу мещерском.
Вышла после метели Февроньюшка проведать свой куст ракитовый. Глядит: за околицей, на дороге Муромской, на том месте, где старушка сидела,– саночки, расписные легонькие. Конь в них не впряжен, постромки оборваны. На снегу – кровь, на снегу следы побоища коня ретивого с волчьей стаей. Подбежала к саням – в них незнакомый молодец, скорее мертв, чем жив: волками искусанный, снегом припорошенный, и не тают снежинки на лице его, что со снегом белизной сравнялось. Подхватила Февроньюшка молодца на руки. Ох, и тяжел молодец – в шубе лисьей, сапожках алых! А у нее откуда только силы взялись – легко внесла его в околицу. Донесла до первой избы, и тут собаки поднялись, будто сроду Февронью не видели, визгом, лаем исходят. Всполошились бортники, ловцы певчих птиц, всполошились их жены, дети и матери, из храмин своих на улицу высыпали:– Кого это колдунья тащит?
– Свят-свят, уж не оборотень ли, те?
– Не оборотень – чаи, боярин!
– Охабень баской боярский, жарелье бобровое.
– Ой, пала шапка горлатная с вороных кудрей!
Подхватила её Аксютушка, услада глаз родительских, приманка вожделенная для богатых женихов, Старостина дочь. Сам же староста дорогу преградил Февроньюшке:
– Остановись, красавица, не гоже девке мужика к себе в избу пускать, в избу, где своих мужиков десять лет, как нет, да и не пристало боярину в сиротской халупе жить, неси-ка его в мой дом.
Принесла Февроньюшка хворого в дом старосты. Положила на лавку в красный угол. Но рук с него не снимает, поглаживает, похлопывает, а как розоветь начал, раны чистой холстинкой перевязала и тихонько дохнула на него, как птенцам, выпавшим из гнезда, не раз дышала в желтые мягкие клювики.
Ожил молодец, глаза открыл – они у него, словно лепестки цикория. Глядит в них Февроньюшка, наглядеться не может. А он увидел Аксютушку, улыбнулся ей широко, радостно и ей сказал ласково:
– Спасибо тебе, красна девица, спасибо, красавица!
Обидно стало Февроньюшке:
– Не ту награждаешь благодарностью – она только шапку подняла твою соболью, да и красавицей не ее, а меня величают.
Недовольно крякнул староста, поджала губы старостиха, вспыхнула, отвернулась к стене Аксютушка.
– Ступай к себе, Февронья,– в первый раз назвал сироту по имени староста,– не нуждаемся больше в твоей помощи. Потребуешься – кликнем. Без зова же ты в храм мой не ходи.
Ушла Февроньюшка из дома негостеприимного, побрела по снегу рыхлому мимо расписных саночек, что стояли уже на подворье старосты, мимо избушки своей сиротской, где ждали её хромоногий заяц, певчий дрозд, да музыкант невидимый – сверчок запечный. Уже стемнело, когда добралась до друга своего, метелью до самой вершины занесенного. Упала коленями в сугроб, заломила руки, заплакала:
– Ох, да как отняли волки серые да коня у добра молодца,
Ох, как отбили злые нелюди жениха у бедной девицы.
Не расти землянике-ягоде среди снега белого,
Ох, да не быть сиротинушке никогда счастливою.
Зашевелились ветки ракитовые, будто дрему, стряхнули с себя хлопья снежные, и услышала Февроньюшка:
– Князь – твоя судьба. Князь – не боярин. Дождись июня двадцать пятого.
В краю том цветут по ельникам колокольцы голубые великие и лиловые малые, под ветром июньским позванивают. В краю том в тени калины узорчатой прячется любка пахучая. Цветы ее, свечи белые, лишь в полночь лунную распускаются. В краю том, по вырубкам, сверкает прохладная, будто изморозью в зной тронутая, черника сладкая, целебная. Хороши до сих пор черничники возле деревеньки Ласково.Наступило июня двадцать пятое. Не пошла в этот день Февроньюшка в лес за травами, с утра села шить платье свадебное из полотна узорчатого домотканного и так заработалась, что не слышала, как гость к ней пожаловал. Гость нежданный, негаданный, не князь желанный, лица которого она не видела, а спасенный ею зимой боярин, давно восвояси отбывший, в слезах дочь старостину оставивший, а старосту со старостихой с надеждами несбывшимися (ох, да разве женятся бояре на дочерях старостиных!), боярин, чьи глаза цикоривые не раз во сне Февроньюшка видела, боярин, о ком не раз наяву думала. Вздрогнула девица, укололась иглою острою и сказала в сердцах себе:
– Нелепо быть дому без ушей, а хоромам без глаз!
Удивился гость приветствию странному, в толк не взял – пожалела Февроньюшка, что пса не завела дворового: всегда бы уши были, и изба без оконцев на улицу, все равно что незрячая. Подивился гость её премудрости и сказал, кланяясь:
– Прибыл я к тебе от князя Муромского, Петра славного, благочестивого. Сам он сейчас у старосты.
Привела его в края ваши глухие, в лесах затерянные, нужда великая. Захворал князь. Одолела его болезнь страшная, какой врачи наши муромские названья не знают и лечить какую не умеют. Все тело его покрылось язвами, днем и ночью зудом терзающими. Может, ты исцелишь князя, девица, как меня исцелила некогда?
– Как не исцелить человека близкого, супруга нареченного,– отвечает ему Февроньюшка.
– Не женат ещё князь.
–Не беда,– усмехнулась,– на мне и женится.
– Одумайся, девица, где это видано, чтобы князья сирот древолазцевых в жены брали? Если шутишь ты, шутки твои дерзкие. Коль всерьез говоришь, не быть тому никогда.
– Не клянись, боярин,– засмеялась Февроньюшка,– ведь не ты на сироте женишься. Знаю, князь по-иному думает. Ступай, передай ему мой поклон, а я тем временем мазь целебную сделаю.
Ушел боярин обескураженный. Февроньюшка взяла сосудец малый и принялась плескать в него из разных махоточек настой чеснока и очитка едкого, масло зерен еловых и репейного семени, сок из боярышника, из стеблей подорожника, что лишь выпустил стрелки зелёные. Когда возвратился боярин, уже было готово снадобье.
– Князь назовет тебя княгиней, если лекарство твое подействует.
Усмехнулась Февроньюшка:
– Не объехать конем суженого, на торгу здоровья не выменять, у купцов исцеленья не выпросить! – Отдала боярину сосудец малый, мазью чудесной наполненный, и велела, чтобы князь, попарившись, все болячки помазал, кроме одной.
Подивился князь словам девичьим и подумал: «Знать, дурочка, пустомеля – эта лесная знахарка»,– и решил для веселья её испытать.
– Отнеси,– говорит боярину,– потешной этой девице кудели клок малый, пусть сошьет мне исподнее, пока парюсь и натираюсь.
Понравилось Февроньюшке княжье задание: видно, шутник – её суженый и душой светел, не омрачила душу его хворь тяжелая.
– Исполню,– сказала,– желание князя с радостью, но прежде мне его помощь потребуется. Возьми-ка, боярин, с печи полешко березовое, отруби от него щепочку малую, в пядь – не более, пусть из нее князь стан ткацкий сделает, пока я куделю расчесываю.
Хохотал князь:
– Нет, не дурочка–лесная знахарка, а девица зело премудрая! Только и мы лыком не шитые, чтобы жениться на деревенских сиротах. А мазь она и впрямь дала целебную, одна лишь и осталась болячка малая, ну да как-нибудь перетерплю ее, не такое терпел сколько времени.
Сказал так князь не, испив после бани кваску черничного, тотчас отъехал из деревни Ласково к себе в неблизкий град Муром. Не забыл однако у старосты для девицы премудрой Февроньи оставить дары богатые: сундук кованый добра всякого, да серебра-злата, чтобы избу новую себе справила.
Как узнала Февроньюшка, что князем покинута, бросилась за околицу в наряде своем свадебном – потешила люд деревенский. Подумали древолазцы-бортники, ловцы певчих птиц, их жены, дети да матери, что князя догнать она вздумала.
– Ох, да какая же девка настырная! Нет ни стыда в ней, ни совести.
– Из лаптей в княгини вырасти удумала! Не венчаться кукушке с соколом, не быть деревенщине за боярином!
– Все тихоней она прикидывалась, на парней ласковских не поглядывала, на посиделки девичьи не хаживала, не водила хороводов на майском лугу.
– Обуяла гордыня сиротинушку, погнушалась она соседями, позабыла про хлеб их да соль. Разве ж мы ей добра не делали, не её ли всем миром выкормили?
– Она ж, неблагодарная, все кусту молилась дикому.
Посудачили ещё немного бортники, ловцы певчих птиц, их жены и матери и разбрелись кто куда. Ни один не пошел сироту возвращать, никто не стал о ней беспокоиться.
А Февроньюшка бедная через заросли лещины и шиповника, в клочья раздирая платье свадебное, бежала в ту пору к озеру Ласковскому. Затаились в страхе звери дикие, приумолкли, пригорюнились птицы певчие, лешие да кикиморы за коряги попрятались и, как быть им, не знают.
Прибежала к озеру девица – в глубину его с отмели кинулась:
– Расступись ты, гладь озерная, поднимись волна высокая, укрой бедную сиротинушку от обмана и позора!
Безмятежно лесное озеро, мягка и тепла вода его чистая, не приняло оно в свои глубины сиротинушку – покрылось вдруг все цветами пышными одолень-травы, и стебли её гибкие, словно руки ласковые, на берег девицу вынесли.
Бросилась девица к черемухе – обломилась ветка крепкая, пояском узорчатым опоясанная. Захотела цикуты испробовать – не нашла ни единой травиночки.
– Знать, меня бережет от погибели корень, кикиморой даренный! – И со словами этими сорвала с шеи девица ладанку и зашвырнула в крапиву высокую. И тотчас из жгучих зарослей крапивы вышла сама кикимора в своем обличье старушечьем:
– Напрасно ты, девица, буйствуешь. Ох, не все, о чем людям мечтается, сбывшись, приносит радости. И княгини бывают несчастливы, и не раз, не два обмануты. Да много ли радости быть затворницей в терему белокаменном, не дышать лесным воздухом и на лес смотреть из окошечка, никогда не видеть, как цветет папоротник, как бирюзой во мху рассыпаются цветы льна кукушкиного? Много ли радости – в жемчугами шитом, жестком кокошнике, в сарафане тяжелом парчовом привечать жен боярских кичливых и не слышать терпкого запаха груздя, росой на заре омытого, не ходить на болота за «журавлиной ягодой? Много ли радости – за богатым дружком не видать вольной-волюшки? Этого озера тихого, этих сосен высоких – неужели не жаль тебе, девица?
Ничего не сказала Февроньюшка старухе-кикиморе, нашла в крапиве ладанку побрела к деревеньке Ласково.
И не звали с тех пор её в деревне красавицей – величали с издевкой премудрой девой.
В краю том осень празднуют клены багряные и рябины красные. В краю том в дни осенние, погожие, ветер разносит нити шелковые. В краю том небо закрывают, с родной стороной до весны прощаясь, стаи несметные журавлиные. В краю том дожди осенние плачут слезами горючими, неутешными. Раскисает от них. Расползается, словно тесто перестоявшее, дорога Муромская – не пройти по ней, не проехать.
В один из дней осенних, ненастных залаял пес во дворе у Февроньюшки (нелепо иметь двор без ушей), и мимо оконца, бычьим пузырем затянутого, прошел к дверям мужичок неказистый: роста невеликого, щуплый, в одежде хоть городской, да поношенной, лицом бледный, с бородой русой, недлинной.Еще до порога не дошел, уже знала Февроньюшка – князь в гости пожаловал. Сам, без всякой челяди. Сам, в одежде с плеча чужого. Сам пришел с повинною:
– Извини меня, девица премудрая, что не смог я сразу проститься со своей волей-вольною. Хотел лишь лето единое молодецкое сердце свободой побаловать. Теперь вот пришел назвать тебя, дева, княгинею.
– Что, князь, – спросила Февронья холодно,– одолела тебя вновь хворь тяжелая? Хочешь тело избавить от мук и обрести муки душевные? Введешь девку лесную в хоромы княжеские, а она ни ступить, ни слова молвить не умеет по-вашему – вот ведь стыда натерпишься! Но не пугайся, князь, расхотелось мне быть княгинею.
Побледнел князь, подкосились у него ноженьки, рухнул на лавку у печки, а Февронья продолжала весело:
– Не хочу я быть княгинею, но ждала тебя, про болячку незалеченную помнила и приготовила мазь загодя. На, забирай куманец и дары свои летошние. Ступай себе с миром!
– На погибель меня обрекаешь, премудрая: не может жить должником князь Муромский, но нет мочи терпеть мне хворь свою более. Чем оплатить дар твой щедрый, что в замен предложить на твою доброту?
– Полно, князь, дар мой цены не имеет: грех за лекарство цену назначать – силу потеряет. Нельзя и услуги свои ценить – друзей обратишь в торговцев расчетливых. За добро любовью расплачиваются. А коли нет любви, что поделаешь? На «нет» и суда нет. Ступай с миром–час уже поздний, дорога длинная.
– Я полюблю тебя, Февроньюшка,– сказал князь искренне.– Стерпится – слюбится.
– Ан нет,– говорит Февронья премудрая.– Прежде полюбить надо: с любовью невзгоды все стерпятся. Прощай, Петр! Но коль и вправду полюбишь меня (случается, бушует лесной пожар от грозы, отгремевшей загодя), коль полюбишь – приедешь за мной среди бела дня, не в такие вот сумерки. На коне приедешь сером, в яблоках, в расписных легких саночках, июня двадцать пятого, и при всем деревенском люде меня назовешь княгинею.
И со словами этими проводила за порог князя Февроньюшка. И долго потом стояла в дверях, в темень осеннюю вглядывалась. Дождь сеял невидимый, шатал ветер деревья промокшие, навевал на сердце кручину тяжелую. И кто это выдумал – ветру молиться буйному, чтоб разогнал он печаль-тоску?
А ведь приехал князь за Февроньей в расписных легких саночках, как велела она, июня двадцать пятого. Распотешил честной люд ласковскнй, да и весь иной, что встретился на дороге длинной Муромской.– Ох-хо-хо! Никак свихнулся князь благонравный Петр! Уже не готовит сани летом – летом их обкатывает!
– Опоила его дурман-травой дева премудрая!
– Ведьма лихая!
– При всех людях добрых назвал (вот стыдобушка!) ее, голытьбу деревенскую, княгинею Муромской!
– Змея подколодная!
– Вот потеха, ха-ха, глянь, Аксютушка, в лаптях села она в княжьи саночки!
– И рубаха на ней вся до дыр изношена.
– И в косицу, ха-ха, и в косицу, ха-ха, все нитка портяная вплетена, из онучи, чай, выдернула!
Не стерпела на сей раз – ответила им Февроньюшка:
– Соседи мои ласковские неласковые, соседи мои ласковские завистливые, разве зло я кому-нибудь сделала? Разве не я пасла ваших гусяточек, не я лечила ваших малых детушек, не я поднимала вас самих от разных хворостей на ноги? Так за что не поете мне песен свадебных? За что не бросаете в ноги зерен ячменных, хмель на меня не сыпете? Почто за меня вы не радуетесь? Не рассеются слова ваши по ветру, не увезу; вашего зла в край неблизкий Муромский! Зло ваше при вас и останется – не взрастет и не уменьшится, как не вырастет никогда деревенька Ласково. Не убытку, не прибытку вам!
Как сказала, так исполнилось: не растет деревенька Ласково. Если кто новый дом выстроит, другой дом тут же сгорит или от бури рассыпится, или сам по себе развалится. И с кустом ракитовым с тех пор ничего не делается – все так же кругл и зелен он, все так же нежны его листья узкие.
Постояла перед ним Февроньюшка на прощанье:
– Дней ясных тебе, мой волшебный Друг, дней ясных до осени! А осенью приеду и тебя выкопаю.
И в ответ услышала:
– Люди на чужой стороне не всегда приживаются, милая, кусту же дикому без родной земли не вырасти. Вспоминай меня, коли выстоишь, на чужбине, Февроньюшка.
Уезжала сирота без радости из деревни своей неласковой.Как отъехали за околицу, покрыл снег всю дорогу проезжую. Испугались бортники, ловцы певчих птиц, их жены, дети и матери, по домам все сразу попрятались. Только дед Игнат блажил под кустом ракитовым в шубе вывороченной:
– В месяце июне выпала пороша,
с тем дед бабу полюбил, что баба хороша.
Всего и было в день тот радости...
«Всего и было в жизни моей радости,– вспоминала княгиня Февронья Муромская, премудрая и благочестивая,– всего и было радости, когда плыла я с боярином в утлой лодочке, когда посмотрел он на меня глазами лазоревыми, что так похожи на цветы цикория, посмотрел с вожделением, а я его мысли узнала греховодные.Задрожала тогда я, бедная, чуть из лодки не выпала. Но, совладев с собой, сказала боярину:
– Зачерпни да испей водицы сперва с правого борта челна, потом с левого и ответь, есть ли в водах тех разница.
Удивился боярин, однако воды окской послушно испробовал.
– Нет,– отвечает,– княгиня премудрая, разницы.
– Так и в женах,– сказала и сама себе не поверила,– нет никакой разницы. Одинаково естество женское!
Смутился боярин, потупился... Потом боярыня сказывала, возлюбил её пуще прежнего.
Двадцать лет с той поры минуло, а все взгляд его помнится, все голос его низкий, глуховатый слышится: «Нет, княгиня премудрая, разницы».
Эх, боярин, боярин, нет разницы! Да если бы не было, разве добром отвечала бы я князю Петру на любовь его пылкую? Разве добро б это помнила? Я столько добра переделала, что затерялась песчинкою малою в нем любовь моя девичья. А может, любви совсем не было... и за нее приняла неразумная девица извечную женскую жажду любить и самой быть любимой.
Ошибся мой друг волшебный, единственный, мой куст ракитовый: на любовь не добром – лишь любовью можно откликнуться. Добро за любовь – плата низкая. Коль нечем платить – откажись от товара! Да разве откажешься от любви княжеской? Я платила за нее добром тридцать лет... я терпела её тридцать лет».
Так думала княгиня Февронья в июньский погожий день, сидя на крыльце терема белокаменного, вышивая скатерть праздничную.
Под её пальцами ловкими расцветали на полотне цветы пышные одолень-травы и скромные, едва среди трав приметные, незабудки, что по сей день растут у озера Ласковского, сплетались в узоры листья калины, шиповника, гибкие стебли лозы.
На подворье большом княжеском, бревнами дубовыми мощенном, челядь сновала резвая, перекликались на башнях стражники, скользил по стене кремлевской, через бойницу едва пробившись, тонкий закатный луч. Рос в тенистом углу куст коржавый ракитовый, да на карнизе ворот качалась березка хилая, даже весною желтая.
– Ой, княгиня-матушка, дурно князю сызнова! Велел за тобой послать,– кричала девка сенная, молодая девка, красивая.
– Сейчас, послушная наша, буду, вот только кайму доделаю,– отвечала Февронья ласково.
Стежок к стежку – елочка, стежок к стежку – солнышко. (Долго солнце в космах еловых плутает, только в полдень в небеса выбирается.)
– Ой, княгиня-матушка, совсем плохо князю сделалось, велел за тобой послать,– говорил, запыхавшись, молодой рында княжеский.
– Сейчас буду, наш верный, только пятнышко зелёное вышью,– отвечала Февронья спокойно. (Там зелёные огни по ночам меж стволов разбегаются, огни лукавые, веселые.)
– Княгиня премудрая, князь наш кончится, если рук на него не наложишь тотчас же,– с волнением вымолвил боярин седой с глазами лазоревыми.
– Обожди, мой свет, шитье уберу да иголку упрячу надежнее,– сказала Февронья и... заспешив, не в шитье – в ладонь воткнула иглу свою острую, без нити шелковой. И даже не вскрикнула, лишь поглядела, как кровь по запястью катится...
Хоронили Петра и Февронью в одни день, в могиле одной, в одном гробу положили, июня двадцать девятого. Четыре дня с похоронами мешкали.Любовь их чудная, редкая, жизнь их нелегкая сотни раз описана, тысячи раз рассказана, и всяк рассказывает на свои лад.
Поезжайте в деревню Ласково, посидите под кустом ракитовым, может, узнаете быль новую, я же услышала ёе так.
Ирина Красногорская
От редакции: данное произведение публикуется вне конкурса.
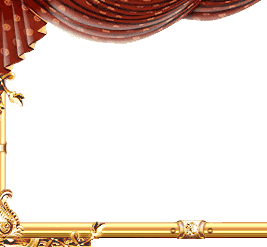

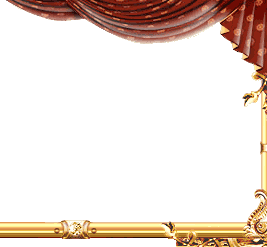





 admin
admin


 Утверждено
Утверждено

 О проекте
О проекте



