деревня
(сельское поселение Корневское)
Российский М.А
В конце XIX в. известный географ и этнограф П.П.Семенов-Тян-Шанский предположил, что деревня Велемья является частью группы поселений, основанных в XIII в. беглецами из сел, сожженных и уничтоженных в ходе татарского нашествия в верховьях Дона и в Задонье, и следовательно, является одним из древнейших поселений в округе. Однако по документам история этого населенного пункта, в разное время фигурировавшего под названиями «починок Углов» или «Угловский», «Подвелемская Слобода», «Подвелемье», «Велья» и, наконец, «Велемья», восходит лишь к середине XVI в. В то время на окрестных землях располагались поместья детей боярских (низшего разряда дворян), сюзереном которых был епископ Рязанский.
В датированной 1568 г. сотной грамоте царя Ивана IV Грозного на земельные владения епископу Рязанскому и Муромскому Филофею в «новом Ряском городе в Пехлецком стану» отписаны «три деревни да два починка, а в них владычных детей боярских дватцеть человек, а дворов двенатцать, а бортничьих крестьянских девять дворов…» Среди них упоминается «починок Угловской под Курьим лесом, что была пустошь, за Климом за Угловым: пашни дватцать шесть ч[етей], да перелогу десять ч[етей] в поле, а в дву по томуж; сена пятнадцать копен; земля добра; лесу пашенного болшого бортного в длину на две версты, а поперег две ж версты…»
Следующий этап в истории поселения подтверждается документом петровской эпохи. В челобитных царю Петру I, направлявшихся от имени преосвященного Авраамия, митрополита Рязанского и Муромского, 8 (18) июня 1699 г. и 11 (22) сентября 1700 г., имеется указание на то, что в 1592 г. «по указу блаженные памяти великого государя и великого князя Федора Ивановича всея Росии, взято из домовых вотчин Пресвятые Богородицы у преосвященного Митрофана, архиепископа Рязанского и Муромского, к Ряскому городу новоприборным казакам на реке на Верде село Кореневое, да Подвелемье, да село ж Секирино, деревня Гуменная, село Пупки, а в них пашни перелогу дикого поля 3850 четвертей, а вместо тех вотчин дано в Коломенском уезде в Маковском стану вотчины боярина Федора Васильевича Шереметева…»
Писцовые книги 1595–1597 гг. сообщают, что в это время прежний починок Угловский, ставший «деревней Угловой», числился «за Немиром за Момаевым сыном Малекшиным», одним из «детей боярских» архиепископа Рязанского. В тех же документах упоминается еще и «пустошь, что было д[еревня] Углова, за Порошею за Игнатьевым сыном Филипповым». «Пустьшь Углова» была известна вплоть до XVIII в.: на планах Генерального межевания Ряжского уезда 1779 г. она была показана как владение «прапорщицы Прасковьи Андреевой дочери Трубниковой с прочими», ее площадь составляла около 145 десятин 1861 сажень (145,9 га).
Изначальное местоположение упоминаемого в документах «починка Угловского» определить трудно, поэтому авторы не берутся утверждать, находился ли он рядом с современным селом Пупки, или же с одноименной пустошью. Можно предположить, что в какой-то момент между 1568 и 1595 гг. «починок Угловский», разросшийся до небольшой деревни, был перенесен на новое место, где получил название «Подвелемская Слобода». Оно, очевидно, указывало на близость поселения к Велемскому лесу и протекающей рядом р. Велемке.
Топоним «Велемский лес» не имеет однозначного толкования. Есть попытки вывести его из финно-угорских языков. Действительно, на современном эрзянском слово «велем» буквально означает «мое село». Однако рассматриваемая местность современного Скопинского района лежит довольно далеко от границ традиционного ареала эрзянского языка. Кроме того, определяющим для понимания местной неславянской топонимики и гидронимики, скорее всего, должен быть не современный эрзянский, а исчезнувший язык мещеры. Воспоминанием о присутствии этого племени на здешних землях, возможно, является протекавшая еще в XVIII в. параллельно Велемке речка Мещерка, сейчас превратившаяся в сезонный ручеек. Но, возможно, не ошибаются и те, кто производит его из русского корня со значением «великий». В словаре В.И. Даля и Словаре русского языка ХI-ХIV вв. поясняется: «Частица вель, веле, велий означает великий. В сложных от неё словах придает им тоже значение». «Велий црк, великий; веле, польское, а у нас иногда употребляется в сложных словах, велико, весьма, очень, много». Кстати, в старину Велемский лес нередко называли Великим. Например, в писцовых книгах Рязанского края ХVI в. можно найти такие записи, относящиеся к нему: «Село Князево Займище под Великим лесом; было по льготе, выйдет изо льготы во 109-м (1611) году…» Впрочем, как представляется, древнейшим в серии местных названий является все же гидроним Велемка, а он еще в конце XVII в. нередко писался как «Велинка» , что также отсылает нас к корням русского языка.
«Выписи с книг Ряского уезду письма и меры Григория Киреевского с товарищи» за 127 и 128 и 129 (1629-1631) гг. свидетельствуют, что в рассматриваемое время в Подвелемской Слободе в Пехлецком стане дворы казаков, несших строевую службу на Большой Засечной черте, соседствовали с хозяйствами дворян архиепископа Рязанского и Муромского. В них, в частности, сказано: «За Иваном Михайловым сыном Угловым в жеребье слободе Подвелемской ево поместье, а на ево жеребье двор ево помещиков, пашни паханой 15 четей, перелогом 25 четей, дикого поля 30 четей, обоего паханой и перелогом и дикого поля 70 четей в поле а в дву потомуж, а сена меж полей всех помещиков четыре ста копен, а лес подвелемский всех помещиков воопче»
«В той же слободе Подвелемской за резанцем за Гуром Спиридоновым сыном Колеминым три жеребья, вдовы Анны жены Дашковой, Матрены Савельевой жены с детьми, да вдовы Марьи Федоровой жены и сына ее Герасимкова поместье Луниных, а на ево жеребье место дворовое помещиково да пять мест дворовых пустых крестьянских…»
«Иванова поместье Углова в жеребье Подвелемской 70 четей в поле, а в дву потомуж, под родственником ево Ларионом Микифоровым, да Степаном Максимовым сын[ом], Петра Алексеева да Семена Тарасова сына Углова. И во 168 (1660) году Семен Углов на службе убит, а поместье ево в 173 (1665) году семнатцать четей с осминою справлено за женою за вдовой Марфой Семеновской жены Углова, то свое прожиточное поместье в жеребье слободе Подвелемской семнатцать четей в поле а в дву потомуж со всеми угодьи в 194 (1686) году променял стольнику Григорью Леонтьеву сыну Кабякову на Ряское ево поместье, а поместье ево в жеребьи слободе Подвелемской… справлено за сыном ево за стольником за Сидором Кобаковым в поместье во 142 (1634) году, Гурова поместье Колемина в слободе Подвелемской сто денатцать четь с осминою в поле а в дву потомуж дано сыну ево резанцу Борису Колемину, ево в бою убили, а поместье ево в прошлом 194 (1686) году дано жене вдове Дарье с дочерью со всеми угодьи…» В 1687 г. «за Сидором Григорьевым сыном Кобяковым поместье в Ряску уезде слободе Подвелемской дватцат шест чете с третником в поле, а в дву потомуж…»В переписной книге Ивана Ивановича Румянцева и подьячего Ивана Кондратьева от 20 февраля (2 марта) 1646 г. значилась в вотчине архиепископа Рязанского и Муромского «за помещиком Иваном Степановым сыном Рогозиным в деревне Велемье девятнатцать дворов крестьянских, в них тритцать шесть человек, бобыльский один двор», в котором указан один человек.
В «Выписи с книг Ряского узду межевания ряского воеводы Ивана Сонцова 186 (1678) года» написано: «Приехав в Ряском уезду в Пехлецкого стану преосвященного Иллариона, Митрополита Рязанского и Муромского, в село Княжево, Владычня тож, на речке на Велемке под Велемским лесом, в деревню Топила, деревню Петрушину на речке Мещерке, взяв с собой тутошних и сторонних людей старост и целовальников, и крестьян, и старожилов, и велел к себе быть сел и деревень, которые с митрополию вотчин смежны помещикам и вотчин, и прикащикам, и старостом, и крестьянам». В межевании, проводившемся под руководством воеводы, приняли участие «деревни Подвелемской стряпчева Дмитрия Иванова сына Рагозина староста Данилко Соболев, крестьянин Назарко Бражников, Микшик Пашмутов, Захарко Поплавин, Оска Чернышов».
«Из грамоты, данной в 7205 (1696) г. марта в 6 (16) день царем Петром Алексеевичем видно, что в то время Пупки и дер[евня] Подвелемье перешли снова в число владения архиерейского посредством промена. «Стольник наш», сказано в грамоте, «Сидор Григорьев сын Кабяков да резанец Яков Степанов сын Тюнеев променили богомольцу нашему преосвященному Авраамию митрополиту в Ряском уезде в Пехлецком стану Сидор в деревне Велемье на реке на Велинке дватцать шесть чети с третником, а Яков Тюнеев в слободе Пупках по обе стороны речки Брусны двенатцеть чети без пол-полтретника, всего тритцать восемь чети с пол-полтретником в поле, а в дву потомуж со всеми угодьи; а богомольца нашего преосвященного Авраамия стряпчие Кузьма Олтухов да Иван Терехов против того променили им, Сидору и Якову, из домовые вотчины в Резанском уезде в Перевицком стану в пустоши Евсеевской Сидору пол четверика, Якову осьмину; а меняютца они теми землями полюбовно, пусто на пусто, они, Сидор и Яков, с перехожими четьми, а за перехожие чети взяли у него, богомольца нашего преосвященного Авраамия митрополита, козенных денег Сидор пятьдесят два рубли, Яков дватцать пять рублей» .
В Ряжской переписной книге 1716 г. деревня Подвелемье записана «за преосвященным Стефаном, Митрополитом Рязанским и Муромским, в той деревне шесть крестьянских дворов в них… обоих полов тритцать семь человек, да вдовьих и нищенских два двора…» По другой окладной книге, составленной не позднее 1724 г., в деревне насчитывалось 11 дворов, в котрых было положено в подушный оклад 68 человек мужского пола, и еще 11 малолетних «неокладных». Среди крестьян перечислены Алексей Андреев сын Ко(р)баков, Харитон Федотов сын Козырев, Федор Иванов сын Бухорев, Алексей Андреев сын Красаков и другие.
В середине XVIII в. велемские крестьяне приняли участие в волениях, которыми сопровождалась секуляризация владений православной церкви. Реформа церковного землевладения была инициирована императрицей Елизаветой Петровной в 1757 г. Основной ее причиной стало чрезмерное распространение церковных земель, не облагавшихся государственными налогами, из-за чего снижались доходы казны. Император Петр III ускорил подготовку реформы и указом от 21 марта (1 апреля) 1762 г. объявил о полном изъятии церковных земель в пользу государства. Для управления бывшими церковными вотчинами воссоздавалась Государственная коллегия экономии. Этим актом Петр III окончательно испортил свои отношения с церковной иерархией и еще более настроил против себя русское общество. После переворота, приведшего на престол Екатерину II, указ был отменен, а конфискованная земельная собственность и крестьяне возвращены церкви. Однако проблема изъятой из налогообложения церковной собственности оставалась, поэтому в конце того же 1762 г. императрица приступила к подготовке будущей секуляризационной реформы 1764 г.
Возникшая неопределенность в статусе церковных владений провоцировала немало конфликтных ситуаций. Феодалы духовного звания, предчувствуя неизбежный отъем земельной собственности, старались побольше выжать из своих крестьян. Те же, в свою очередь, не горя желанием «гнуть спину» на церковь, заваливали правительство жалобами на произвол и чрезмерное обременение. Сохранилась одна из таких челобитных, поданная крестьянами вотчин святейшего Палладия, епископа Рязанского и Муромского, в Ряжском уезде: «В прошлом 1762 году перед праздником Покрова Пресвятой Богородицы, по согласию той вотчины крестьян от ходаков крестьян села Князево-Займище Ефима Гаврилова, села Топил Андрея Игнатова, села Павловского Матвея Финогенова, села Петрушина Назара Никитина» посланы были в Москву выборные крестьяне «для подачи о отягощении от дома Его Преосвященства излишних с народа поборов Ея Императорскому Величеству челобитной, и принеся оне к отданию в Москве и на Красной площади челобитную написали, и какого чину челобитную писал того не знают, с той челобитной пошли они во дворец, что в Кремле-городе, и оную челобитную те ходаки во время шествий в Сенат Ея Императорскому Величеству подали». При этом рязанскими крестьянами создавались легенды, толковавшие грядущие перемены в свою пользу. Циркулировали среди них и подложные документы, сулившие волю и распределение всей церковной земли среди тех, кто ее обрабатывал.
Случаи непослушания и, выражаясь современным языком, открытого саботажа со стороны крестьян сел Князево-Займище, Топилы, Павловского, Озерок, а также деревень Велемьи и Петрушиной отмечались в 1762 г. В письме экономического игумена, полученного Ряжской воеводской канцелярией 9 (20) апреля 1763 г., сообщалось, что из ранее «неоднократно посланных из оной Катетральной канцелярии в Ряскую воеводскую канцелярию промеморий» ей должно быть известно о беспорядках и непослушании, которые выразились в том, что крестьяне разбирали скот, сено, семена и прочее. Среди документов Ряжской воеводской канцелярии имеется и доношение о беспорядках «прикащика Ивана Федорова сына Протопопова вотчин святейшего Палладия, архиепископа Рязанского и Муромского, Ряжского уезда села Князева-Займища». К нему был приложен реестр крестьян, расхищавших сено: села Топил – 12 крестьян, села Павловского – 15, села Озерок – 8 человек, и деревни Велемьи крестьяне Александр Алексеев, Дмитрий Яковлев, Гаврила Алексеев, Антон Захаров, Кудин Федосов, Савостьян Дементьев». Приказчик докладывал, что, кроме сена, расхищен был скот, инвентарь и зерно. Крестьяне также отказывались выполнять положенные работы. 16 (27) июня 1763 г. экономический игумен сообщал, что крестьяне «сысканы за противности и наказаны плетьми, и возмутителя… и товарищи». Однако всех участников и тем более инициаторов неповиновения сразу отыскать не удалось. Лишь к сентябрю 1763 г. оставшиеся бунтовщики были схвачены, и их приказано было «…привести под караулом в Ряскую воеводскую канцелярию», после чего они были допрошены и наказаны.Указ Екатерины II о секуляризации церковных владений вышел 26 февраля (8 марта) 1764 г. В соответствии с ним все учреждения церкви отстранялись от управления имениями. Земельные владения Святейшего Синода, епархиальных кафедр, монастырей, и приходов поступали в казну и передавались в управление Государственной коллегии экономии. Крестьяне, проживавшие в бывших церковных имениях, также передавались Государственной коллегии экономии и впредь именовались «экономическими крестьянами». С 1 (12) января 1764 г. вместо барщины и оброков они переводились на подушный оклад в размере 1,5 руб. с человека в год, который уплачивался казне через Государственную коллегию экономии. Из доходов коллегии выделялись суммы на содержание церковных учреждений.
Казалось бы, новые условия хозяйственной деятельности экономических крестьян давали им больше возможностей для повышения своего благосостояния. Но это произошло далеко не сразу. Как выяснилось, сумма подушного оклада не была фиксированной и со временем начала возрастать. Уже в 1768 г. он достиг 2 руб. 70 коп. с мужской души, а в 1783 г. - целых 3 рублей. Исчезла и привычная сельским жителям возможность занять у церковных властей инвентарь, лошадь, зерно или деньги в счет будущего урожая. Крестьяне остались наедине с государственными чиновниками.
В 1778 г. в составе Рязанского наместничества был образован Скопинский уезд, в состав которого вместе с другими окретсными поселениями вошла и Велемья. Экономические примечания к планам Генерального межевания Скопинского уезда 1779 г. сообщают, что «деревня Велья (именно так передано ее название) лежит оврага безымянного на правом, а речки Мещерки на левой сторонах, которая в летнее время совсем пересыхает, и по обе стороны безымянного отвершка». Как бывшее церковное владение, деревня числилась собственностью Государственной коллегии экономии. По 3-й ревизии податных сословий Российской империи, проводившейся в1762 г., в ней насчитывалось 39 дворов, 91 душа мужского пола и 85 - женского. Земли под селением 21 десятина 740 саженей (23,23 га), пашни 309 десятин 317 саженей (335,95 га), покоса 33 десятины 1540 саженей (36,67 га), неудобий - 4 десятины 100 саженей (4,4 га), крестьяне состояли на положенном по закону оброке. Об условиях хозяйственной деятельности также сообщалось: «Земля чернозем с серью, хлеба и покосы средственны, лес дровяной».
Согласно картам середины XIX в., в это время деревня Велемья Скопинского уезда Рязанской губернии представляла собой единственную улицу, упиравшуюся на востоке в небольшой лес, а с запада ограниченную ручьем. Последняя в истории России 10-я ревизия податного населения, проводившаяся в 1858 г., показала, что в это время в деревне Велемье проживали государственные крестьяне: 232 души мужского пола и 272 – женского.
При образовании волостей в 1860-х гг. деревня Велемья вошла в состав Князевской волости Скопинского уезда. Видимо, определяющую роль сыграло то, что с 1719 г. жители деревни были прихожанами Архангельской, а с 1862 г. – Вознесенской церкви села Князево-Займище. К 1868 г. в Велемье действовали ветряная мельница и крупорушка.Во 2-й пол. XIX в. население Велемьи продолжало расти. В конце 1870-х гг. в деревне насчитывалось 98 дворов и 696 жителей. По переписи населения 1882 г. в Велемье уже было 115 домохозяйств, в которых проживали 350 мужчин и 382 женщины. Из них грамотой владели лишь 22 мужчины. На крестьянскую душу приходилось 4,9 десятины (5,34 га) земли, большей частью чернозема и частично суглинистой почвы. 2 двора считались безземельными, дворов без коровы и лошади насчитывалось 37. При 110 избах было 97 плетневых дворов, 49 горниц и клетей, 68 амбаров и сараев, 85 риг и овинов. Около 90 мужчин деревни числились в отхожих промыслах. В деревне работали 5 мастеровых, действовало одно промышленное заведение (видимо, имеется в виду ветряная мельница), был открыт кабак.
Из архивных документов 1893 г. известны имена владельцев велемских «промышленных предприятий» (их к этому времени уже стало два) - ветряной мельницы и кузницы. Первой в рассматриваемое время владела мещанка Александра Ивановна Окорокова, второй – мещанин Василий Федорович Боков.
В 1887 г. в соседнем с Велемьей селе Петрушино была освящена новая Архангельская церковь. С этого времени жители деревни стали прихожанами новопостроенного храма .
В 1905 г. в Велемье насчитывалось 184 двора, проживали 674 мужчины и 643 женщины. В деревне по-прежнему работали ветряная мельница, и кузница, но с началом ХХ в. к ним добавилось еще и «овчинодубильное заведение». К 1908 г. в Велемье насчитывалось уже 1064 жителя.
Между 1908 и 1914 гг. в Велемье открылось первое образовательное учреждение – земская школа. В отчете за 1916 г. велемская школа названа однокомплектной. .По другим данным она называлась одноклассной с трехгодичным курсом обучения.
В год начала Первой мировой войны в Велемье Князевской волости Скопинского уезда насчитывалось 160 дворов, 587 мужчин и 607 женщин. В революционном 1917 г. в деревне уже было 174 двора, 646 жителей мужского пола и 666 - женского.
Установление советской власти в Скопинском уезде в декабре 1917 г. первоначально не оказало сильного влияния на жизнь велемцев. Как и прежде, они работали в поле и на окрестных шахтах.
4 сентября 1923 г.(по неуточненным данным) в семье велемских крестьян Никифора и Евфросиньи Косоротихиных родился четвертый ребенок – дочь Наталья. Ей выпала необычная судьба стать самой знаменитой уроженкой деревни Велемья за всю историю ее существования. В 1950 г. Наталья Косоротихина попала в автомобильную аварию, после которой провела в летаргическом сне более 19 лет. Придя в себя по прошествии этого времени, она осталась парализованной на всю жизнь, но у нее открылся удивительный дар молитвы и предвидения, которым она помогала всем нуждающимся. В 1997 г. архимандритом Иоанно-Богословского монастыря Авелем она была пострижена в схимонахини под именем Феодосии, став одной из наиболее известных православных стариц рубежа ХХ и XXI вв. Дом родных матушки Феодосии Скопинской в поселке Октябрьском даже после ее кончины 15 мая 2014 г. продолжает привлекать множество паломников со всей России. Схимонахиня Феодосия (Косоротихина) была похоронена на сельском кладбище между селом Петрушино и деревней Велемья. Место ее погребения отмечено памятной часовней, рядом с котрой идет сроительство монументального храма. Освящение учакстка под его возведение состолось в ходе торжественного богослужения 21 июля 2016 г.
Однако в детские годы Натальи Косоротихиной ее родной край жил не духовными, а совсем иными интересами. В частности, в конце 1920-х гг. в деревне Велемья Петрушинского сельсовета был организован первый колхоз. Об истории его создания скопинская газета «Авангард» писала: «Осенью 1929 года [в Велемье] создали товарищество по обработке земли. В нем состояло всего 18 дворов, в которых было всего-то 3 лошади, 3 плуга однолемешных, 3 сохи и 3 телеги. Сбруи и прочего снаряжения совсем мало. Вскоре к ним примкнула еще группа. Всего оказалось 22 бедняка, 10 батраков, 4 середняка и неугомонная Мария Ивановна Федюкина. В числе колхозников 6 партийцев и 3 комсомольца. Арендованная земля ускользала у богатых, отрезали под колхоз. Батраки все в колхозе. Загоготали богатеи: «Побирашки, весной последнее проедите. К нам под окна христарадничать придете». В ответ 1 марта 1930 года с пением и красными флагами первые колхозники прошли по деревне. Так и возникла сельскохозяйственная артель «Восход», тут же два бедняцких хозяйства записались в него. Первым председателем стал Прохор Дмитриевич Фролов.
На 12 лошадях, с красным флагом, с агрономом выехали они в поле. Посадили лук-севок. На 30 га вместе с овсом посеяли клевер. Раскорчевали гектар корневища старого леса, засадили капустой. За школьный участок принялись, целых два гектара засадили, невиданное дело для Велемьи. Все бы хорошо, но на глазах стал таять председатель. С красными флагами, торжественно и просто хоронили скромного работягу Прохора Фролова, своего первого неугомонного председателя. Собрались после похорон, погоревали: «Кого же в преды-то… Андрея Стеничкина даешь, и точка…Кто за?» Все. Стеничкин – секретарь партячейки, бывший красноармеец. На следующий день в поле вывел новый председатель колхоза «Восход»».
Зажиточные крестьяне и часть середняков были изначально против вступления в колхоз, но, осознав вектор государственной политики в отношении сельского хозяйства, решили не выделяться и стать колхозниками. В результате именно они стали оказывать решающее влияние и на правление колхоза, и на партячейку. Уже в 1931 г. в отчетных документах колхоза «Восход» указали площадь посева меньшую, чем в действительности, правление стало добиваться от властей снижения плана хлебозаготовок. В 1932 г. секретарь Скопинского райкома партии Хоченков с юмором вспоминал, что в минувшем году «дошло до того, что кулаки приходили в райисполком и сетовали на свою судьбу».
Курс советского государства на максимальную коллективизацию сельского хозяйства и искоренение крестьянина-единоличника отражался и на настроениях в деревне. Их ярко иллюстрирует случай на пожаре в деревне Велемья, случившемся 15 июля 1932 г. Горели три дома – колхозника и двух единоличников. Газета «Побединский ударник» сообщала: «Забойщик 42-й шахты Орехов заявил, что дом Уколова Б. можно было спасти. Когда бывшему секретарю парторганизации Стеничкину, руководившему борьбой с пожаром и поливавшему водой сгоревший почти совсем дом колхозника сказали о том, что машину надо бы использовать для того, чтобы залить, загоревшийся дом Уколова, он ответил: « Не ваше дело. Пусть горит единоличник, нам колхозники дороже».
В июне 1932 г. по работе колхоза «Восход» Петрушинского сельсовета было принято специальное постановление бюро Скопинского райкома ВКП (б), в котором, в частности, говорилось: «Со стороны правления колхоза и в особенности бывшего председателя колхоза и секретаря партячейки т. Стеничкина в руководстве колхозным строительством были допущены ряд грубейших политических ошибок и извращений в части организационно-хозяйственного укрепления колхоза: обсчет колхозников, наличие родственных связей и семейственности в самом правлении, зажим критики. При распределении работ, преимущество оказывалось группе ближе стоящих к правлению и родственникам. При распределении урожая по трудодням, имели место ряд случаев выдачи… овощей в замороженном виде, без согласия на то самих членов колхоза, за полученные овощи удерживалась зерновая продукция. Приплод поросят в количестве 40 штук был распределен между группой лиц, ближе стоящих к правлению, без учета качеств и количества труда, причем часть поросят была продана на базаре (завхоз Антонов и др.)
Причитающиеся по трудодням зернопродукты выдавались лишь после погашения денежной задолженности колхозника (паевые, членские взносы и др.), чем ущемлялись интересы бедноты и у массы колхозников создалось мнение, что по трудодням продукция не выдается, а продается колхозникам за наличный расчет. Игнорировались бытовые запросы бедноты: колхознику Штолину в грубой форме дважды было отказано в лошади для поездки в больницу. Нескольким бедняцким хозяйствам, вышедшим из колхоза, было отказано весной в даче быка-производителя без уплаты наличными 5 руб. и 10 фунтов муки, не предоставляя никаких рассрочек. За невыход на работу отдельные бедняцкие хозяйства (Штолин на 24 дня) подвергались штрафу. Соцсоревнование и ударничество не получили в колхозе надлежащего применения, а наоборот имели место искажения. Некоторым колхозницам не записано 4 трудодня премии за хорошую работу, и в тоже время жена завхоза Антонова, не работая в колхозе, получила премию. Всеми извращениями в колхозе воспользовалась группа антисоветских элементов села во главе с Лягушиным И.И. (бывший жандарм) и подкулачником Ореховым. В результате 31 хозяйство (в том числе 21 бедняцкое) в марте-апреле вышли из колхоза». По итогам критики велемская партячейка была распущена. Виновный в перегибах Стеничкин был снят со своих должностей, его дело было передано на рассмотрение в РКК.
Предпринятые меры, по мнению руководства Скопинского района, должны были оздоровить обстановку в велемском колхозе «Восход». Однако манипуляции со статистикой урожайности, похоже, продолжались. Например, по данным газеты «Побединский ударник», в 1933 г. председатель колхоза «Восход» Бирюков заверил район, что «урожай огурцов с га составит 70 центнеров, когда в реальности 100 ц».
К марту 1935 г. в Велемье вне колхоза оставалось всего 10 хозяйств крестьян-единоличников. В общей сложности у них было 5 лошадей. Сельсовет наложил на единоличников «твердое задание» по хлебозаготовке. Крестьяне заявили сельсовету, что «семена у них имеются полностью, поэтому ограничились взятием у них расписок о сохранности семян. Фактов отказа от принятых планов тоже не было. Ну, а осенью единоличник Повасин Андрей Георгиевич, середняк, отказался от земли и перешел на работу на местные угольный шахты. Единоличник Храмзин Семен Степанович, середняк, готовясь к вступлению в колхоз продал свою лошадь». Отвечать за срыв планов хлебозаготовок пришлось сельсовету…
Посевные планы, «твердые задания», повышенное налогообложение зажиточных крестьян-единоличников, казалось бы, должно было стимулировать приток людей в колхозы. Несмотря на это, устойчивый процент сельских жителей держался за свой единоличный статус. Безусловно, не последнюю роль в этом играли перегибы и извращения сути кооперации, которые не смогла сгладить даже знаменитая статья И.В.Сталина «Головокружение от успехов. К вопросам колхозного движения» (1930). Сопротивление нововведениям советской власти, которые консервативная крестьянская среда воспринимала с традиционным недоверием, поддерживало на селе напряженную обстановку. В Велемье такая ситуация привела к преступлению.
В 1934–1935 гг. на страницах районной газеты не раз появлялись острые материалы, бичевавшие неблаговидные поступки бывших сельских богатеев и их родственников. Были среди них и заметки велемского селькора, комсомольского активиста Леонида Васильевича Гришина (?–1936). Критические стрелы начинающего журналиста попали в цель, нанеся удар по и без того уязвленному самолюбию представителей раскулаченной деревенской элиты. Утром 11 января 1936 г. тело Леонида Гришина нашли с проломленным черепом под стогом соломы в окрестностях села Князево. Гибель сына стала настоящей трагедией для Василия Титовича Гришина, жителя Велемьи и горнорабочего 46-й шахты.
В июне 1937 г. убийцы Леонида были арестованы и предстали перед судом. Из их показаний стали известны обстоятельства преступления. «По инициативе подкулачников образовалась группа преступников. Убить поручили дальнему родственнику раскулаченного богатея – Леонтию по прозвищу Лохматый. Вечером 10 января 1936 г. Лохматый и три его сообщника встретились в клубе с Леонидом Гришиным. Завели разговор о ребятах из соседнего Петрушина, которые ухаживали за велемскими девчатами. «Я полагаю, петрушинцев надо маленько проучить», - сказал Лохматый. Потом немного поразмыслив добавил: «А знаете, что я придумал. Пойдем сейчас на конюшню. Там в землянке поужинаем. Заодно и договоримся обо всем. А на тебя, Ленька, мы не обижаемся за то, что критиковал нас в газете. Правда на твоей стороне, бывали случаи, когда мы воровали из кладовой фуражное зерно и меняли на самогонку…» Пришли в землянку, стали готовить на плите ужин, Лохматый заранее принес для этой цели из дома курицу. Когда в чугунке закипела вода, главарь кулацкой шайки предложил комсомольцу посмотреть как варится курица. Леонид нагнулся над плитой. И в эту минуту Лохматый занес над его головой топор. Хоронили Леньку как настоящего бойца, в гимнастерке защитного цвета».
В деревне Велемья Петрушинского сельсовета на 1 января 1939 г. насчитывалось 222 двора. В велемском колхозе «Восход» состояло 213 дворов, в которых в общей сложности было 1042 жителя, из них трудоспособных 485 человек. Крестьян-единоличников, не вступавших в колхоз, оставалось 297 человек. В 1938 г. под зерновые и овощи было занято более 682 га земли. Из них 509 га приходилось на рожь и пшеницу, 60 га – на картофель, 25 га – на овощи и бахчевые культуры. В 1938 г. с этих площадей было собрано 2 615 ц зерновых и бобовых, 284 ц картофеля и 228 ц других овощей и бахчевых. По итогам 1938 г. на трудодни было распределено 23,6% прибыли колхоза, на администрацию израсходовали 7,2% полученного дохода. По итогам года на каждого колхозника пришлось в среднем по 55 трудодней. Каждый трудодень конвертировался в выдачу 0,38 кг зерновых и бобовых и 7 копеек деньгами. В 1938 г. в велемском колхозе было 79 лошадей и 9 жеребят, 11 коров и 2 теленка, 25 свиней и 320 поросят, 1 овца. В колхозе «Восход» работал черепичный завод, где было занято 7 человек. По другим данным, в том же 1938 г. из 576 крестьян деревни в возрасте от 16 до 59 лет в колхозе реально состояло 146 человек, в отходе (на шахтах и промышленных предприятиях) – 151 человек, еще 25 человек считались инвалидами-иждивенцами. Если считать по дворам, то большинство населения деревни было занято в колхозе. В действительности же на одни только трудодни небогатого велемского колхоза прожить было трудно, поэтому почти в каждой крестьянской семье кто-то находился в отходе на заработках. В основном на окрестных шахтах, где платили неплохо.
Начало Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. означало для жителей Велемьи мобилизацию наличных людских ресурсов как на борьбу с врагом, так и на трудовой фронт. В первый военный год был получен неплохой урожай ржи – по 16 ц с га. В августе 1941 г. на полях колхоза «Восход» убирали хлеб две жатки и 27 косцов. На уборку вышли все, даже освобожденные от полевых работ колхозные конюхи Т.А.Синицын, И.М.Мизерев и И.М.Фомкин. К колхозникам присоединились и работавший на шахте односельчанин Д.Г.Стеничкин, и железнодорожники Я. Афонин и А. Шалыгин. Были дни, когда вдохновленные желанием помочь сражающейся Родине уборщики выполняли по две суточные нормы (и это при том, что комбайнов не было, и почти все работы выполнялись вручную). По две нормы выдавали даже женщины из звеньев колхозниц Александры Савкиной и Шалыгиной. Чтобы зерно не пропадало, не осыпалось, пожилые женщины М. Фролова, У. Алимова, А. Алимова и Е. Повасина жали по-старинке серпами. Еще в уборочную кампанию 1940 г. в колхозе «Восход», по примеру секиринцев, бригадир Евдокия Федоровна Московцева создала женскую бригаду косцов. Этот опыт особенно пригодился в военные годы, когда мужчин на селе стало повсеместно не хватать.
На полях сражений Великой Отечественной войны покрыл себя бессмертной славой уроженец Велемьи старший сержант Никита Семенович Синицын (1907–1985). Он находился в рядах РККА с августа 1941 г., в декабре 1942 г. был тяжело ранен под Юхновом. В январе 1945 г. Н.С.Синицын, командовавший отделением 1281-го стрелкового полка 60-й стрелковой дивизии 47-й армии в составе 1-го Белорусского фронта, отличился при освобождении Польши. В критический момент боя за город Новы Двур Мазовецкий он заменил выбывшего из строя командира взвода и во главе его переправился через р. Вислу, захватив немецкую траншею и удерживая ее до переправы основных сил батальона. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 г. «за мужество и героизм, проявленные при форсировании Вислы и в боях на захваченном плацдарме» старший сержант Н.С.Синицын был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. После нового тяжелого ранения в феврале 1945 г. он был демобилизован, по окончании войны жил и работал в Рязани.
В послевоенные годы в колхозе «Восход» остро не хватало сельхозтехники, практически все работы приходилось выполнять с применением традиционных крестьянских технологий еще дореволюционных времен. Не хватало лошадей, пахали на коровах и быках. Как всегда бывает в жизни, трудовой героизм нередко соседствовал с разгильдяйством. В 1949 г. велемец Н.Рыбин писал в стенгазете колхоза «Восход» Петрушинского сельсовета: «На воскреснике с большим подъемом вывозили удобрения на поля. Нашелся бригадир первой бригады Севагин М.Ф., который пришел пьяный. Товарищ Севагин берет пример с бывшего председателя т. Повасина. Тот дождался, что о его позорном поведении написала стенгазета. А потом его не избрали вновь председателем».
В эти годы в большинстве колхозов Рязанской области не были укомплектованы фермы. В колхозе «Восходе» вдобавок не хватало и помещений. Для строительства фермы нужны были деньги. В 1948 г. для приобретения материалов для строительства помещений для скота председатель колхоза «Восход» Петрушинского сельсовета Шалыгин распорядился продать 20 поросят и корову, но вырученные деньги в итоге пошли не по назначению. Правление колхоза продолжало продавать солому, а телята лежали без подстилки в грязи. Молоко разбавлялось холодной водой, так как не было посуды для подогрева.
В 1949 г. к селам Скопинского района были подведены линии высокого напряжения, что позволило обеспечить механизированную молотьбу. В Велемье механизированный ток заработал только в конце 1950 г. Трудностей было много, общей бедой оставались дороги и мосты. «Все 4 моста в Велемье были негодные, не было возможности проехать на машине. В этом повинен только заведующий дорожным отделом т. Овинников, как и председатель сельсовета Носов», - писал в районную газету председатель колхоза «Восход» Шалыгин.
В связи с укрупнением сельсоветов в 1954 г. Петрушинский сельсовет, включавший село Петрушино и деревню Велемья, был присоединен к Князевскому. В январе-феврале 1963 г. был образован колхоз «Заря коммунизма» Князевского сельсовета. Его центральная усадьба находилась в селе Князево. Кроме сел Петрушино и Князево в него вошли деревни Велемья и Осиново-Шилово.
По административному делению 1970 г. деревня Велемья вместе с селами Князево, Петрушино и поселком Осиново-Шилово относилась к Князевскому сельсовету. Скопинский краевед А.Сальников писал о Велемье в районной газете «Ленинское знамя» в 1973 г.: «За годы советской власти деревня неузнаваемо изменила свой облик. Зажиточнее, благоустроеннее стала жизнь велемских хлеборобов. И в нынешнем году, приняв повышенные обязательства, они стремятся к тому, чтобы их колхоз «Заря коммунизма», центральная усадьба которого находится в Князево, поставил государству больше хлеба и другой сельскохозяйственной продукции» .В 1980-е гг. деревня Велемья считалась бесперспективной – деревенская молодежь активно переселялась в города. Процесс усугубился в следующем десятилетии, когда возможности трудоустройства на селе резко сократились после реорганизации князевского колхоза «Заря коммунизма», преобразованного в акционерное общество «Заря».
1990-е гг. ознаменовались возрождением церковной жизни в Велемье. Один из деревенских домов был перестроен в часовню, которая действует и поныне.
В соответствии с Законом Рязанской области от 7 октября 2004 г. № 76-оз «О наделении муниципального образования – Скопинский район статусом муниципального района, об установлении его границ, границ муниципальных образований, входящих в его состав» деревня Велемья была включена в состав Корневского сельского поселения с административным центром в селе Корневом.
По данным Всероссийской переписи населения 2010 г. в Велемье осталось 15 жителей – 11 мужчин и 4 женщины.
Во вложенных файлах вариант очерка со сносками.
| Прикрепленный файл | Размер |
|---|---|
| doc | 128.5 кб |
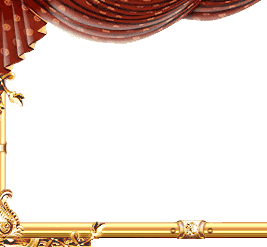
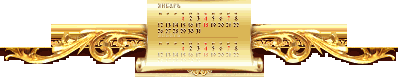
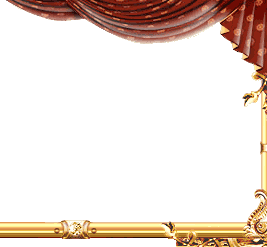





 skala
skala

 Утверждено
Утверждено

 О проекте
О проекте



