Очерковый рассказ «Рождение поэмы» выл написан К. Г. Паустовским в 1933 году и в том же году опубликован в № 7—8 журнала «Смена». С тех пор он ни разу не перепечатывался.
Очерковый рассказ «Рождение поэмы» выл написан К. Г. Паустовским в 1933 году и в том же году опубликован в № 7—8 журнала «Смена». С тех пор он ни разу не перепечатывался.
«Рождение поэмы» — это первое приближение писателя к любимой им теме Мещерского края. Не удивительно, что кое-какие мотивы читатель встретит в некоторых более поздних рассказах и повестях, посвященных Мещерскому краю. Но многие эпизоды рассказа не повторялись впоследствии ни в одном произведении Константина Георгиевича.
Рассказ входит в сборник произведений, подготовляемый комиссией по литературному наследству К. Г. Паустовского.
Л. Левицкий

Деда послали в город. Дело было нестоящее, и дед всю дорогу ругался. Озера бушевали. Из-за лесов неслись, набирая скорость, рваные и неприятные тучи.
До узкоколейки деда довезли на «одре», вышибавшем душу. «Одер» сохранился в тех местах еще со времен князя Олега Рязанского. Два колеса, ось и на оси — плетень; только на такой колымаге можно было проехать по тамошним глубоким пескам и болотам. «Одер» был не телегой, а схемой, некой упрощенной до предела идеей первобытного колеса. Он скрипел и стонал по лесным дорогам, пахнувшим йодом и гнилыми пнями. Перепадали дожди.
На узкоколейке дед схитрил, до следующей станции Ласково он дошел пешком и только там, благословись, сел на поезд. Полтинник остался в кармане. В поезде дед жаловался двум непонятливым бабам:
— Кануна меня послала прямым сообщением в город.
— Кака кануна?
— Ну, вроде колхоз.
— Камуна, — догадались бабы.
— Ну камуна, — согласился дед. — Посылают меня до музею, где Советско правительство собирает карточки, прейскуранты, все такое прочее. Посылают с заявлением.
— Чего брешешь?
— Ты гляди, вот!
Дед вытащил измятую бумажку, сдул с нее махру и показал бабам.
— Машка, прочти, — сказала баба девчонке, лузгавшей семечки у окна.
Машка обтянула платье на коленках, подобрала ноги и стала читать:
— «Зобчается, что в Белом озери живут незнакомые птицы, громадного росту, полосатые, всего три, неизвестно откуда залетели, надо бы взять живьем для музею».
— Вот, — сказал дед, — за каким делом стариков посылают. Все Лешка-комсомолец. Тьфу!
Бабы вытирали круглые рты концами платков и вздыхали. Паровоз, похожий на закопченный донельзя чайник, испуганно посвистывал и озирался: леса гудели и справа и слева, бушуя, как озера. Хозяйничал западный ветер. Поезд с трудом прорывался через его сырые потоки и безнадежно опаздывал, отдуваясь на глухих полустанках. Неглухих полустанков на этой линии не было.
— Вот жизня наша! — сказал дед. — Запрошлый год в музею ездил, сегодняшний год — опять.
— Чего в запрошлом нашли? — спросила баба постарше.
— Торчак.
— Чегой-то?
— Торчак. Ну, кость древнюю. В болоте она валялась. Вроде олень. Роги — с этот вагон, прямо страсть. Копали его месяц — вконец измучился народ.
— На кой он сдался? — спросила баба.
— Ребят по ем будут учить.
Об этой находке в «Исследованиях и материалах музея» сообщалось следующее:
«Скелет уходил в глубь трясины, не давая опоры для копачей. Пришлось раздеться и спуститься в трясину, что было крайне трудно из-за ледяной температуры родниковой воды. Правый и левый огромные рога, как и череп, были целы, но крайне непрочны вследствие полнейшей мацерации костей. Кости разламывались прямо в руках, что вызывало опасение в успешности сохранения скелета. Но по мере высыхания твердость костей восстанавливалась».
Был найден скелет исполинского ирландского оленя с размахом рогов в два с половиной метра.
В городе дед долго объяснял заведующему музеем насчет птиц.
— Полосатая она, стерва, — говорил он сокрушенно. — Ну прямо гагара, только поболе и пострашней. Одно слово — пестрядь.
Деда отправили обратно с наказом: птицу не пугать и ждать охотников из города. Ехать на Белое озеро за птицами вызвались геолог Шпиндлер и сотрудник местной газеты поэт Ваня Дорохов. Три часа они ползли по узкоколейке до Ласкова. Глухие полустанки были завалены смолистыми бревнами и пахли свежей порубкой и немудрыми лесными цветами.
В Ласкове их встретили комсомолец Лешка, он же Алексей, и дед. Лешке было не до озера, в их колхозе косили сено, и с Дороховым и Шпиндлером отправили провожатым деда, носившего кличку «Двадцать процентов». Идти на озеро дед побаивался — ходили слухи, что там живут не то водяной, не то рыба с громадной жабьей мордой.
— Остатней способности у меня нету, — ныл всю дорогу дед. — Инвалид я, свинья меня задрала. Ну, милок, была свинья — прямо лев. Ударил я ее шестом, хотел выгнать из избы, — она как кинется, повалила меня, я лежу, кричу в голос, она меня рветь, она меня терзаеть. Мужики сбежались, боятся подступиться, а она меня рветь, она меня терзаеть! Насилу отняли. В больнице я месяц пролежал, доктор сказывал: ты теперь, Егор, совсем остался без трудоспособности, от тебя, говорит, по видимости сохранилось двадцать процентов, никак не более. С тех пор так меня и величают «Двадцать процентов». Ну, была же свинья! Выйдет на улицу — все как вымерло, бабы ребят хватают, ворота запирают, мужики с вилами ходют, чистая война. Однако убили ту свинью разрывной пулей, иная ее не берет.
— Ты, старик, про водяного нам расскажи, — попросил Шпиндлер.
— Что водяной... Водяной живет, рыбкой питается. Чего про него говорить. Сам увидишь.
— А ты видал?
— Как не видать — видал.
Только к закату вышли к Глухому озеру. До Белого озера, где жили птицы, идти оставалось несколько часов. Решили заночевать и провести на Глухом озере день — спешить особенно некуда. Ночь медлила. Она зарождалась на восточном берегу озера сумерками, легкой синевой, страшно высоким месяцем, повисшим над зарослями, но обрыв на западном берегу был еще выпукло освещен солнцем. Обрыв лесники называли «Рудым яром».
— Ваня, — Шпиндлер остановил Дорохова за рукав, — прочти-ка мне еще раз твои стихи о соснах.
Дорохов начал читать. В стихах было одно место — оно очень нравилось Шпиндлеру. Там рассказывалось о старых сосновых пнях, о тончайших слоях древесины, нараставших десятки лет, о медленном могуществе жизни. Стихи были тихие и скромные, как и сам Ваня.
— Вот это мне здорово нравится, — Шпиндлер похлопал Ваню по плечу. — Стихи о напластованиях жизни. В сущности говоря, стихи об органической химии. Ну, не сердись, я не о том хотел сказать. Разговор будет о «Рудом яре». Погляди получше.
Под косым солнцем обрыв казался полосатым, как шкура пестрого зверя, разложенная у подножья лесов. Желтели ровные слои девонского известняка, осыпавшегося колючими осколками и окаменелыми ракушками аммонитов. Над известняком белели ледниковые пески, перемытые многими водами и перевеянные ветром давно забытых эпох, над ними лежала пепельная толща подзола.
— Видал? — спросил Шпиндлер. — Вот тебе медленное могущество жизни. Здесь каждый слой нарастал тысячи и тысячи лет, не то что у твоих сосен.
— Камень есть камень, — пробормотал Ваня. — Ты геолог, тебя это, конечно, интересует, но чего ты хочешь от меня? Чтобы я изложил тебе геологию александрийским стихом или ямбом?
— Нет, — язвительно ответил Шпиндлер. — Я хочу, чтобы ты написал стихи о божьей коровке. Камни эти могут мир перевернуть, а ты мне всю дорогу бубнишь о горлинках и стрекозах. Слепота! Глупая слепота, черт бы вас всех побрал, поэтов!
Шпиндлер яростно посмотрел на Ваню через круглые очки и стал похож на хищную птицу. Ваня засмеялся.
— Я юродивый, — ответил он и начал спускаться к озеру. — Я за рыбную ловлю и охоту лешему душу продам, а ты меня фаршируешь кембрием и девоном. Скучное это дело, дорогой товарищ.
Ночь почти не спали. Шпиндлер сидел у костра и читал, морщась, тоненькую книжку «Геологический очерк Минусинской котловины». Ваня готовился к утренней рыбной ловле, перебирал снасти, потом от нечего делать высыпал на газету червей и пересчитывал их — он все тревожился, что червей не хватит.
— Четыреста штук, — Ваня с сокрушением покачал головой.
Дед забеспокоился во сне.
— Не жадничай, — ответил Шпиндлер.
Спать не хотелось. На востоке не было еще никаких признаков рассвета, даже не зеленело небо. В заводях спросонок крякали утки. Звезды переливались, будто ветер перемывал их в черной ключевой воде. Шпиндлер закурил и посмотрел на Венеру. Казалось, что она летит сквозь заросли волчьих ягод и никак не может долететь до земли, до озера, до лесов и блеснуть над ними своим мертвым светом, похожим на сверкание инея.
— Неплохо, — пробормотал Шпиндлер и задумался.
— Ну, что ты там вычитал? — спросил Цаня. — Расскажи, дожидаться зари будет веселее.
 — Эти книги я умею читать между строк. — Шпиндлер прислушался к плеску рыбы на озере. — Слыхал? Это щука ударила. Скучные здесь вещи написаны, Ваня. Вот слушай: «Каменноугольные залежи известны в нескольких местах Минусинской котловины. Самые мощные носят название абаканской мульды. Они имеют первостепенное экономическое значение. В юго-восточной части мульды известно 38 пластов общей мощностью в 40 метров. Угли жирные, с длинным пламенем».
— Эти книги я умею читать между строк. — Шпиндлер прислушался к плеску рыбы на озере. — Слыхал? Это щука ударила. Скучные здесь вещи написаны, Ваня. Вот слушай: «Каменноугольные залежи известны в нескольких местах Минусинской котловины. Самые мощные носят название абаканской мульды. Они имеют первостепенное экономическое значение. В юго-восточной части мульды известно 38 пластов общей мощностью в 40 метров. Угли жирные, с длинным пламенем».
— Читай между строк!
— Ну ладно. Ты знаешь, что происходит с углем? Нет? Происходит следующее: угольный пласт создавался миллионы лет, а мы его сжигаем в один день. Отсюда возникает паника. Возникает страх, что угля не хватит, хотя мировые запасы и переваливают за 8 миллиардов тонн. Поэтому каждый новый пласт угля отодвигает все дальше и дальше какой-то конец человеческой культуры, который сейчас уже чудится иным слабонервным людям. Лишняя тонна угля — это лишняя книжка хороших стихов, это тепло, свет, это вообще, если выразиться по-твоему, по-поэтическому, спрессованная в черном блестящем камне сила жизни, сила и богатство мыслей и ощущений нашей эпохи. Небось человек каменного века не мог расточать столько прекраснейших мыслей, как, например, Флобер или Верхарн, которого ты совсем зря не читаешь.
Ну то-то! Все твое острое восприятие жизни от вековой культуры, от угля, от железной руды, от всяких таких марких и скучных вещей. Ты брось смеяться. Подкинь-ка лучше в костер. Сбил ты меня, я не о том говорю. Итак, угля мало, запасы его быстро иссякают. Но ты, Ваня, не пугайся. Химики додумались до того, чтобы превращать уголь в жидкое топливо, а в этом виде он дает эффект, как принято выражаться, во сто крат больший, и запасов угля хватит нам настолько, что даже трудно себе представить. Называется эта штука, такое превращение угля, гидрогенизацией.
Ваня молчал и слушал, как на мшарах, на сухих болотах, поросших мелколесьем, кричали встревоженные журавли.
— Совы им спать не дают, — догадался Шпиндлер. — Конечно, все, что я тебе говорил, — это обрывки каких-то настоящих знаний. Ты поймешь мою главную мысль? Займись геологией. Она даст тебе точные образы. Ты пойми, что так называемые «полезные ископаемые», помноженные на нашу человеческую выдумку и научную мысль, и создают то, что называется культурой. Нигде так настойчиво не ищут этих богатств, как у нас в СССР, и, следовательно, нет нигде такой тяги к культуре и таких величайших возможностей. Подумай об этом на рыбной ловле. Очень стоит. Я редко читаю журналы, но одно меня бесит — это вопли критиков против авантюрного романа. Какая бессмыслица! Поговори с участниками экспедиции, и ты узнаешь, что героизм неотделим от приключений. Не правда ли? Где-нибудь на Таймыре участники экспедиции съедают все до последней крошки, до фактории две недели ходьбы, и вот, чтобы не умереть с голоду, люди жуют стеариновые свечи. Потом их рвет. Потом они совершенно серьезно пишут в отчетах, что свечи оказались весьма противными на вкус. Но, однако, они едят свечи и упорно двигаются к цели. Так-то, брат. Напиши поэму о геологах. Перед тем, что они пережили, перед их упорством и остротой мысли бледнеет даже твоя поэтическая фантазия.
 На востоке загоралась заря. Она лилась к зениту потоками голубого света. Звезды растворялись в нем, становились все более далекими, как огни поездов, уходящих в туман. Дед проснулся и зевал, поскребывая грудь.
На востоке загоралась заря. Она лилась к зениту потоками голубого света. Звезды растворялись в нем, становились все более далекими, как огни поездов, уходящих в туман. Дед проснулся и зевал, поскребывая грудь.
— Ну, дед, где же водяной? — спросил Шпиндлер. — Покажи, мы его бахнем из двустволки.
Дед неопределенно махнул рукой:
— Тама, у той заводи в воде лежит. Иди сам, я с тобой не пойду.
Шпиндлер взял дробовик и пошел к заводи. В рассветном тумане озеро казалось морем. Роса брызгала в лицо. На березах пели горлинки.
Ваня Дорохов остался с дедом кипятить чай. Со стороны заводи ударил гулкий выстрел.
— Спаси, владычица-троеручица, — старик быстро закрестился. — Неужто убил? Доходишься с вами до погибели.
— Ты чего крестишься, дед? Небось в церковь ходишь?
— Ходил, пока поп был. Не к себе, а в Заборье. У нас храм не действует. Попа сняли. У них, значит, в Заборье колхоз, поп, значит, требы сполняет, а ему за это самое трудодни начали считать. Лешка наш узнал и прикончил это дело. Действительно, сам посуди, какие они, к лешему, колхозники, нешто можно попам трудодни выписывать? Смехота!
— Эге-гей! — закричал издалека Шпиндлер. — Дед, эге-гей!
— Кличет ученый, — пробормотал дед. — Пойдем, что ли?
С трудом они прорвались к Шпиндлеру через заросли осинника и молодой березы. Обнаружилось, что водяной действительно убит, — то был гнилой ствол громадной березы. Он лежал на дне озера около берега, и сучки его — гнилушки — светились под водой, как раскосые глаза черта. Шпиндлер выстрелил в один глаз, расщепил березу, и глаз потух.
— Видал? — Шпиндлер ткнул в березу шестом. — Видал твоего водяного?
Дед помолчал, поскреб поясницу, потом тонко захохотал:
— Да разве я что! Девки, дуры, набрехали. За брусникой сюда боялись ходить. Ну, теперь, слава те господи, освободил ты нас от страху. Теперь девки сюда понапрут за грибами, только держись!
Вернулись к костру. Ваня вычерпал воду из лодки. Дикие утки пролетали над ним со свистом и неуклюжим шумом. Когда на вершинах сосен зазолотела хвоя и в зарослях зашумели птицы, Ваня, ругаясь со Шпиндлером из-за спутанных лесок, оттолкнул лодку. Серебряное солнце медленно подымалось из холодной озерной воды. Весь этот день Ваня думал о словах Шпиндлера, и неясные контуры величавой поэмы переплетались в его глазах с медленно тонущими поплавками и брызгами солнца, летевшими с пойманных окуней.
Днем, купаясь с лодки и вдыхая сладкий дым, стлавшийся по воде от костра, Ваня рассказывал Шпиндлеру о рождении поэмы. То была поэма о недрах, о камнях, о шершавой руде, о ледниковых озерах, выстланных торфом, о нефти, пахнущей морями, о геологах, о временах, близких, как завтра, когда у земли будут отняты, наконец, ее глубокие клады и рассвет каждого голубого и теплого дня будет началом творческого и радостного существования.
— Не совсем ясно, — сказал Шпиндлер, — но правильно. Крой, пиши.
Ваня плыл к берегу. Брызги падали на листья кувшинок и сверкали на них, медленно скатываясь в воду. Безмолвный полдень, похожий на светящуюся воду, подымался над лесами.
Через пять дней Шпиндлер и Дорохов доставили в музей двух гигантских полярных гагар, пойманных живьем на Белом озере.
Озеро, где поймали гагар, было ледниковое. Дело это произошло в трехстах километрах от Москвы, в Мещерских лесах, тянущихся от Спас-Клепиков до Рязани.
Журнал «Вокруг Света»: Константин Паустовский. Рождение поэмы
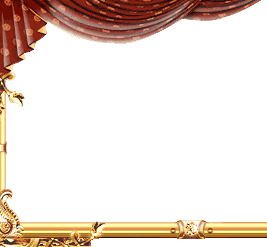

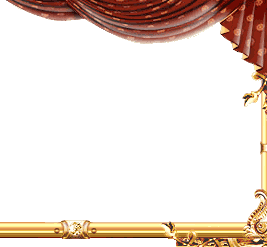





 admin
admin


 Утверждено
Утверждено

 О проекте
О проекте



