26 мая 1877 – 14 сентября 1927
«Подошла и прищуренным глазом
Хулигана свела с ума».
«… на банкете, устроенном в её честь, …Дункан подошла к Есенину своей «скользящей» походкой и, недолго думая, обняла его и поцеловала в губы… Есенина, уже успевшего напиться, поцелуй Айседоры привёл в ярость. Он оттолкнул её – «Отстань, стерва!». Не понимая, она поцеловала Есенина ещё крепче. Тогда он, размахнувшись, дал мировой знаменитости звонкую пощёчину. Айседора ахнула и в голос, как деревенская баба, зарыдала.
Сразу протрезвившийся Есенин бросился целовать ей руки, утешать, просить прощения. Так началась их любовь. Айседора простила. Бриллиантом кольца она тут же на оконном стекле выцарапала:
Esenin is a huligan,
Esenin is an angel!
Есенин – хулиган, Есенин – ангел».
«Это золото осенье, эта прядь волос белесых, -
Всё явилось, как спасенье беспокойного повесы», –
так «казалось…казалось…», а «лицом к лицу» и величественная статуя Свободы оказалась поставленной «ради курьёза», и «прозревшие вежды» закрыла «одна лишь смерть».
3 октября 1921 года в студии художника Георгия Якулова Айседора появилась после полуночи. «Она обвела глазами, похожими на блюдца из синего фаянса, и остановила их на Есенине. Маленький, нежный рот ему улыбнулся. Изадора легла на диван, Есенин сел на пол у её ног. Она окунула руку в его кудри и сказала: «За-ла-тая га-ла-ва!»… Потом поцеловала его в губы и вторично её рот, малиново-красный, как ранка от пули, приятно изломал русские буквы: «Ангел!». Поцеловала ещё раз и сказала: «Тшорт!». В четвертом часу утра Дункан и Есенин уехали».Сергей Есенин поселился у Айседоры Дункан на Пречистенке, часто «убегал, писал письма, но они доходили позже, чем возвращался их автор»…
«Она вся как ручей, плавно текущий по бархатному лугу, в ней есть трогательность светло-зелёных весенних прутиков плакучей ивы, её руки мерно качаются над головой как ветви деревьев во глубине лазури, клонимые летним ветром. Её пальцы зацветают на концах рук как стрельчатые завязи белых лилий, как на статуе Бернини пальцы Дафны, вспыхнувшие веточками лавра. Её танец – танец цветка, который кружится в объятиях ветра и не может оторваться от тонкого стебля; это весенний танец мерцающих жучков; это лепесток розы, уносимый вихрем музыки.
Музыки не слышно. Музыка претворяется и смолкает в её теле как в магическом кристалле. Музыка становится лучистой и льётся жидкими потоками молний от каждого её жеста, музыка зацветает вокруг неё розами, которые сами возникают в воздухе, музыка обнимает её, целует её, падает золотым дождём, плывёт белым лебедем и светится магическим нимбом вокруг её головы.
В ней есть то, что есть в египетских статуях, то, чего не знали греки: она делает видимым цвет воздуха, касающегося её тела», - так передавал впечатление от исполнения Айседорой Дункан «Лунной сонаты» и Седьмой симфонии Бетховена в Париже в 1904 году Максимилиан Волошин.
Ирландка по происхождению, американская танцовщица Изадора Анжела Дункан (Isadora Duncan) (1877-1927), известная всему миру как «королева жестов», приезжала в Россию в 1904 и в 1907, в 1909 и в 1913, в 1921 и в 1923 годах.
«Если бы я довольствовалась танцем, как сольным выступлением, мой жизненный путь был бы очень прост. Уже знаменитая, желанная гостья во всех странах, я могла бы спокойно продолжать свою карьеру. Но, увы! Меня преследовала мысль о школе, о большом ансамбле, танцующем Девятую симфонию Бетховена», - писала знаменитая артистка.
Художник Юрий Анненков вспоминал:
«Захваченная коммунистической идеологией Айседора Дункан приехала, в 1921-м году, в Москву. Малиноволосая, беспутная и печальная, чистая в мыслях, великодушная сердцем, осмеянная и загрязненная кутилами всех частей света и прозванная «Дунькой» в Москве, она открыла школу пластики для пролетарских детей в отведенном ей на Пречистенке бесхозяйном особняке балерины Балашовой, покинувшей Россию.
Прикрытая лёгким плащём, сверкая пунцовым лаком ногтей на ногах, Дункан раскрывает объятия навстречу своим ученицам: ребятишки в косичках и стриженные под гребенку, в драненьких платьицах, в мятых тряпочках, с веснушками на переносице, с пугливым удивлением в глазах. Голова Дункан наклонена к плечу, лёгкая улыбка светит материнской нежностью. Тихим голосом Дункан говорит по-английски:
- Дети, я собираюсь учить вас танцам: вы будете танцевать, когда захотите, те танцы, которые подскажет вам ваше желание. Я просто хочу научить вас летать, как птицы, гнуться, как юные деревца под ветром, радоваться, как радуется майское утро, бабочка, лягушонок в росе, дышать свободно, как облака, прыгать легко и бесшумно, как серая кошка… Переведите, - обращается Дункан к переводчику и политруку школы, товарищу Грудскому.
– Детки, - переводит Грудский, - товарищ Изидора вовсе не собирается обучать вас танцам, потому что танцульки являются пережитком гниющей Европы. Товарищ Изидора научит вас махать руками, как птицы, ластиться вроде кошки, прыгать по-лягушиному, то есть, в общем и целом, подражать жестикуляции зверей…
С Есениным, Мариенгофом, Шершеневичем и Кусиковым я часто проводил оргийные ночи в особняке Дункан, ставшем штаб-квартирой имажинизма… Дункан пленилась Есениным, что совершенно естественно… Роман был ураганный и столь же короткий, как и коммунистический идеализм Дункан».
«Дункан назвали царицей жеста, но из всех её жестов этот последний, поездка в революционную Россию, вопреки навеянным на неё страхам, - самый красивый и заслуживает наиболее громких аплодисментов»; «… когда Айседора Дункан протягивала нам все свои силы, всю свою жизнь и пыталась собирать тысячи рабочих детишек для того, чтобы учить их свободе движений, грации и выражению высоких человеческих чувств, мы могли только платонически благодарить её, оказывать ей грошовую помощь и, в конце концов, горестно пожав плечами, сказать ей, что наше время слишком сурово для подобных задач», - с восхищением и горечью констатировал Анатолий Луначарский.
Есенин присутствовал на многих выступлениях Дункан, в том числе и 7 ноября 1921 года на её концерте в Большом театре, на официальном открытии школы танцев Айседоры Дункан 3 декабря 1921 года, а 10 -13 февраля 1922 года поехал с Айседорой в Петроград, где она танцевала в честь ветеранов революции с крейсера «Аврора», а он составил запродажную петроградскому Госиздату на свою поэму «Пугачев». Айседора Дункан вместе с Есениным была частым гостем Сергея Коненкова на Пресне, завсегдатаем «Стойла Пегаса» на Тверской, книжной лавки поэтов на Никитской. Она не знала русского языка, Сергей Есенин не владел ни одним из иностранных языков, но Айседора в стихах Есенина слышала музыку и говорила, что он гений. Они понимали друг друга и разговаривали и без переводчика не только на языке танца и стиха, и когда в феврале 1923 года по возвращении в Россию Есенин послал телеграмму: «Isadora browning darling Sergei lubich moia darling scurry scurry», - только Айседора смогла понять, что браунинг убьёт Сергея, если она не поспешит, и, больная, помчалась к нему из Парижа в Берлин.
17 марта 1922 года Есенин написал заявление народному комиссару просвещения А.В. Луначарскому с просьбой о ходатайстве перед Наркоматом по иностранным делам (НКИД) о выдаче ему заграничного паспорта и о разрешении ему поездки в Берлин сроком на три месяца («по делу издания книг, своих и примыкающей ко мне группы поэтов»).
2 апреля Постановлением комиссии по рассмотрению заграничных командировок Есенину была разрешена поездка в Германию.
21 апреля1922 года Народным комиссариатом по просвещению был выписан мандат Есенину «в том, что он командируется в Германию сроком на 3 месяца по делу изданию собственных произведений и примыкающей к нему группы поэтов» и что «Народный комиссариат по просвещению просит всех представителей советской власти, военных и гражданских, оказывать С.А. Есенину всяческое содействие».
8 мая Есенин получил заграничный паспорт.
18 апреля 1922 года Айседора Дункан направила своему американскому импресарио Соломону Юроку (Hurok) телеграмму с предложением организовать турне по городам Америки: «Я, Ирма, великий русский поэт Есенин и двадцать учениц».
19 апреля Сол Юрок ответил согласием на предложение Дункан: «Турне начинается в октябре», - и просил прислать «фотографии и сведения для рекламы».
«Правительство предоставило помещение, но я кормила детей из собственного кармана… Это было абсолютно по-коммунистически», - говорила Дункан и своими выступлениями в Америке надеялась обеспечить существование своей школы в России.
2 мая 1922 года Айседора Дункан и Сергей Есенин зарегистрировали свой брак в Московском ЗАГСе при Хамовническом районном совете, пожелав носить двойную фамилию: Дункан-Есенин и Дункан-Есенина. «Теперь я – Дункан!», - кричал Есенин, выйдя из ЗАГСа на улицу. Сохранились фотография, запечатлевшая в этот день Айседору Дункан, Сергея Есенина, приёмную дочь Дункан - Ирму (Ирму Доретту Генриентту Эрих-Гримм, руководившую школой-студией Дункан до 1928 года), и книги Есенина «Пугачев», вышедшие в декабре 1921 года – на обложке 1922 - в издательстве «Имажинисты», с его дарственными надписями: «Ирме от чорта», - и Айседоре – с добавлением к цитате из Лермонтова в стиле этой поэмы Есенина: «За всё, за всё, за всё тебя благодарю я».
10 мая Айседора Дункан и Сергей Есенин «проаэропланили» в Кёнигсберг, затем на поезде приехали в столицу Германии, где в ночь с 12 на 13 мая их встречали в берлинском «Доме искусств». В Берлине они зарегистрировали свой брак вторично. «Я никогда не верила в брак, и теперь верю меньше, чем когда-либо. Я вышла замуж за Есенина только затем, чтобы дать ему возможность получить паспорт в Америке», - признавалась Дункан.
Их ждали (и дождались): Германия (Кёнигсберг, Берлин, Дюссельдорф, Потсдам, Любек, Франкфурт-на-Майне, Лейпциг, Веймар, Висбаден, Кельн), Бельгия (Остенде, Брюссель); Франция (Париж); Италия (Венеция, курорт Лидо, Падуя, Флоренция, Рим, Неаполь); снова Бельгия (Брюссель), Франция (Париж, Гавр); США (Нью-Йорк, Бостон, Чикаго, Нью-Йорк, Индианаполис, Луисвилль, Милуоки, Канзас-сити, Сент-Луис, Мемфис, Чикаго, Детройт, Кливленд, Нью-Йорк, Толидо, Нью-Йорк); и снова, при возвращении в Россию, - Франция (Шербур, Париж), Германия (Берлин), снова Франция (Париж) и Германия (Берлин).13 сентября 1922 года Российское Генеральное Консульство в Париже выдало Есенину паспорт для поездки в Соединенные Штаты Северной Америки, и 25 сентября из Франции на океанском пароходе «Париж» («Paris») они отправились в Америку. (К этому времени Есенин выступал с чтением своих стихов: 12 мая - на литературном вечере в берлинском «Доме искусств» и 1 июня - на вечере «Нам хочется вам нежное сказать», организованном берлинским издательством «Россия»; в Германии в Берлине посетил редакцию газеты «Накануне» и передал стихотворения «Всё живое особой метой», «Не жалею, не зову не плачу», опубликованные 14 мая 1922 года; 18 мая заключил договор с издательством З.И. Гржебина на издание сборника его стихов и поэм; в июне 1922 года в журнале «Новая русская книга» была опубликована автобиография Есенина «Сергей Есенин», написанная им 14 мая 1922 года в Берлине, где он продолжал работать над «большой вещью под названием «Страна Негодяев»; в Берлине в «Русском Универсальном Издательстве» в начале августа 1922 года вышла поэма Есенина «Пугачёв»; в июле во Франции в Париже Есенин встречался с Францем Элленсом, который совместно с Марией Милославской готовил к изданию на французском языке сборник его стихов «Confession d`un Voyou» («Исповедь хулигана»), вышедший двумя изданиями в мае 1922 и сентябре 1922 (на обложке 1923) года в Париже в издательстве «Унион»: Я.Поволоцкий и К; в августе в франко-бельгийском журнале «Зелёный диск» была опубликована статья Ф.Элленса «Великий современный русский поэт Сергей Есенин» и поэма Есенина «Кобыльи корабли» в переводе Франца Элленса и Марии Милославской).
Газета «Нью-Йорк трибьюн» писала: «Пока «Париж» входил под парами в залив, мистер Есенин… восхищался красотой очертаний Нью-Йорка на фоне неба . Он увидел его впервые сквозь полуденную дымку и, будучи поэтом, пришел в восторг». Позднее в очерке «Железный Миргород» сам Есенин писал об этом впечатлении: «…глазам моим предстал Нью-Йорк… Разве можно выразить эту железную и гранитную мощь словами?! Это поэма без слов… Здания, заслонившие горизонт, почти упираются в небо. Над всем этим проходят громаднейшие железобетонные арки. Небо в свинце от дымящихся фабричных труб. Дым навевает что-то таинственное, кажется, что за этими зданиями происходит что-то такое великое и громадное, что дух захватывает. Хочется скорее на берег, но…».
1 октября, «когда пароход пришвартовался в Нью-Йоркской бухте, чиновник иммиграционной службы, действовавший согласно инструкции из Вашингтона», сообщил Айседоре Дункан и Сергею Есенину, что они не имеют права сойти на берег до соответствующего разрешения властей, и предложил проследовать на Эллис-Айленд (место нахождения политических заключенных) для проверки. «Есенин, заготовивший целую речь, молчал». Капитан парохода «Париж» предложил Дункан и Есенину и сопровождавшему их в качестве секретаря и переводчика А. Ветлугину (псевдоним писателя, журналиста Рындзюна Владимира Ильича) остаться на борту парохода в качестве его гостей, тем самым освободив их от унижения провести ночь на Эллис-Айленде. Газета «Нью-Йорк Геральд» опубликовала заявление чиновника иммиграционной службы: «Ввиду продолжительного пребывания Айседоры Дункан в России и факта, что молва давно связала её имя с Советским правительством, правительство Соединенных Штатов имело основание полагать, что она могла быть «дружеским посланцем» Советов». «Вашингтон получил сведения о нас, что мы едем как большевистские агитаторы», - писал позднее Сергей Есенин в своём очерке об Америке «Железный Миргород». 4 октября 1922 года Нью-Йоркская газета «Новое русское слово» сообщала «…Задержание на Эллис-Айленде было для Дункан и её свиты полной неожиданностью… нет сомнения, что задержаны они были по инструкциям из Вашингтона. Как полагают, здесь главным образом играют роль симпатии Айседоры Дункан к Советской России… Мэнеджер Айседоры Дункан С. Юрок, посетивший танцовщицу на проходе «Париж», был обыскан иммиграционными властями. Они, по-видимому, опасались, что Дункан передала через С. Юрока «крамольные бумаги». При С. Юроке, однако, ничего « красного» не было обнаружено». «Таймс» не сдерживала эмоций: «Айседора Дункан задержана на Эллис–Айленде. Боги могут смеяться! Айседора Дункан, которой мир обязан созданием нового искусства танца, - зачислена в опаснейшие иммигранты!».
Брат танцовщицы Августин Дункан и её импресарио Сол Юрок дали телеграмму президенту Соединенных Штатов Уоррену Джорджу Гардингу. После двухчасового допроса Есенин и Дункан 2 октября были освобождены. «Друзья Дункан дали телеграмму Гардингу», - писал Есенин в своём очерке «Железный Миргород», - и «он дал распоряжение по лёгком опросе впустить меня. Взяли с меня подписку не петь «Интернационала», как это сделал я в Берлине».
Такое же обещание Есенину и Дункан пришлось дать и ранее, в Дюссельдорфе, 29 июня 1922 года, когда в связи с выступлением в ночь с 12 на 13 мая в берлинском «Доме искусств» он и Айседора Дункан обратились с просьбой о помощи к заместителю народного комиссара советской России по иностранным делам М.М.Литвинову:«Уважаемый т. Литвинов!
Будьте добры, если можете, то сделайте так, чтобы мы выбрались из Германии и попали в Гаагу. Обещаю держать себя корректно и в публичных местах «Интернационал» не петь.
Уважающие Вас
Сергей Есенин
Айседора Дункан».
Об этом скандале в «Доме искусств» писали газеты Европы и Америки, а ставшие очевидцами Евгений Лундберг и Роман Гуль вспоминали позднее:
«…Вечер отходил… И вдруг – аплодисменты. Минский радостно возвестил: пришёл Есенин. Хотя следовало бы сказать: прилетел. Ибо на юношески дерзком лице в растрепанных ветром кудрях нескрываемо сквозило выражение: «Вы ходите, а я вот летаю. Хотя бы на аэроплане»… Вошла Айседора Дункан, улыбнулась и села». «…один больше чем неуравновешенный (умопомешанный) эмигрант … вдруг ни с того ни с сего заорал во всё горло, маша рукой Айседоре Дункан: «Vive L`International!». Это было совершенно неожиданно для всех присутствовавших, да, наверное, и для Айседоры…Часть присутствовавших запела «Интернационал» (тогда официально гимн РСФСР), а часть начала свистать и кричать «Долой! К чёрту!»… «Свистки нарастали, кто-то тупой и мрачный наступал на Кусикова, предлагая единоборство. И тут только проявилось, каким европейцем может быть этот черкес. Он не протянул руки вперед. А спрятал их за спину и мрачно промолвил: «Убери руки. Застрелю, как щенка». Есенин вскочил на стол и стал читать о скитальческой, озорной душе. Свистки смолкли. Оправдан был ответ поэта свистунам: «Не пересвистите. Как засуну четыре пальца в рот – тут вам и конец. Лучше нас никто свистеть не умеет». Конечно, это выступление было одной из причин задержания Дункан и Есенина на Эллис-Айленд.
Газета «Новое русское слово» 4 октября 1922 года сообщала: «Оставляя Эллис-Айленд, Айседора Дункан и её муж Сергей Есенин были окружены толпой репортёров, которые осыпали их разными вопросами, в числе которых фигурировал вопрос: коммунисты ли они? «Мой муж главным образом интересуется поэзией, а я – танцами и судьбой русских сирот», - был ответ Дункан». «Сергей Есенин заявил, что он напишет поэму о Нью-Йоркских небоскрёбах и знаменитой статуе Свободы».
Они остановились в Нью-Йорке – как и положено знаменитостям – в самом фешенебельном отеле «Валдорф-Астория» («Waldorf-Astoria») на Пятом авеню.
Поэт и художник Давид Бурлюк после встречи с ними в отеле опубликовал 7 октября 1922 года в Нью-Йоркской газете «Новое русское слово» свою работу «Поэт С.А.Есенин и А.Дункан»:
«С Есениным А. Дункан привезла в Америку кусок, и показательный, России, русской души народной. <…>.
В последнее время стихи Есенина вышли в свет в Берлине и в Париже. Во Франции стихи Есенина переведены на язык галлов.
Из Москвы Есенин и Дункан проаэропланили на Берлин в начале мая с. г. С 10 мая до июня прожили в Германии. «Там тесно, - сказал нам Есенин, - вообще от Европы дышит мертвенностью музея – впечатление отвратительное».
С четой Есенин-Дункан прибыл журналист Ветлугин.
Предполагаются устройством поэзо-концерты прибывшего поэта. Стихи Есенина переводятся на английский язык и скоро будут предложены американскому читателю.
Поэт предполагает пробыть в Америке три месяца. Своей внешностью, манерой говорить С.А. Есенин очень располагает к себе. Среднего роста, пушисто-белокур, на вид хрупок…».
Давид Бурлюк называл пребывание Есенина в Америке историческим.
2 октября 1922 года газета «Нью-Йорк Таймс» писала: «Положив кудрявую голову своего мужа себе на плечо, мисс Дункан сказала, что он – молодой поэт-имажинист». «Его называют величайшим поэтом со времен Пушкина, - продолжила она». В газете «Нью-Йорк Уорлд» от 2 октября 1922 года отмечалось, что он мог бы стать прекрасным полузащитником в любой футбольной команде. Он произвёл впечатление на репортёров своими юностью, атлетичностью и весёлостью.Спектакли Айседоры Дункан в Нью-Йорке в Концертном зале «Карнеги-Холл» («Carnegie Hall») прошли с большим успехом и заканчивались речами Айседоры. Если верить газетной заметке, на её первом выступлении 7 октября в «Карнеги-Холл» Есенин был в высоких сапогах, русской рубашке и шея его была обмотана длиннейшим шарфом.
Сопровождая Айседору в её турне, Есенин объездил ряд городов в Восточных и Центральных Штатах. Она танцевала «Интернационал», и её спектакли заканчивались не только её выступлениями о советской России, о Есенине: «Сергей не политик, он гений, он великий поэт, в России его зовут величайшим поэтом после Пушкина», «…вот гений. Вот молодая Россия. Шальной, сильный, полный жизни. Поэтичный…», - но и объяснениями в полиции. Вскоре Айседоре запретили въезд в Индианаполис. Юрок дал обязательство от имени Дункан воздержаться от выступлений, но на первом же спектакле Айседора произнесла, как выразились местные газеты, «одну из своих наиболее ярких речей о коммунистической России». Наутро репортёры сообщили Дункан, что ей навсегда запрещён въезд в Индианаполис. Это грозило отменой турне, и Юрок в Милуоки не допустил её высказываний на концерте, но на банкете она наверстала упущенное. В Бостоне не только Дункан, но и Есенин, открыв за сценой окно, собрал целую толпу бостонцев и с помощью какого-то добровольного переводчика рассказывал правду о жизни новой России. В партер въехала конная полиция. Турне приостановилось. Как писала «Нью-йорк таймс» 6 декабря 1922 года, к 13 декабря было отменено и её выступление и рождественская проповедь на тему «Очищающее воздействие танца на человеческую душу» в Епископальной церкви Св. Марка в Бауэри в Нью-Йорке. (В Москве тоже Айседоре Дункан было отказано в возможности танцевать в храме - Христа Спасителя).
В Нью-Йорке Есенин встретил прежнего приятеля Леонида Гребнева (наст. имя Лейб Файнберг), который в Москве входил в состав группы имажинистов, а в Америке начал писать на идиш и стал видным еврейским литератором. Встретил и Вениамина Левина, журналиста, писавшего стихи, бывшего левого эсера, с которым Есенина «познакомил Иванов-Разумник в Петрограде в 1917 году, и они были дружны в Москве в 1918-20 годах».
«Гребнев свёл Есенина с поэтом Брагинским, тоже выходцем из России, который печатался под псевдонимом Мани-Лейб… Почитатель Есенина, Мани-Лейб перевёл несколько его стихотворений на идиш… Есенин довольно близко сошёлся с ним и его женой, которая тоже писала стихи».
В 1921 году вышла составленная литератором и переводчиком Авраамом Ярмолинским в сотрудничестве с его женой Бабет Дейч «Антология русской поэзии» - «Modern Russian Poetry», в английском переводе. Несколькими стихотворениями в ней был представлен и Сергей Есенин. Когда Ярмолинский узнал из газет, что Есенин приехал в Нью-Йорк с Айседорой Дункан, он попросил издателя выслать ему экземпляр книги и написал Есенину об этом. В ответ получил от Есенина записку:
«The Waldorf-Astoria
New York
1 ноября 1922
Уваж. т. Ярмолинский.
27 октября в Чикаго я получил Ваше письмо с пометной от 3 окт. и совершенно не получил книги, которую должен был послать мне Ваш издатель. Очень хотел бы поговорить с Вами лично. Если можете, то позвоните завтра в 12 часов в отель ком. № 510.
С почтением к Вам и Вашей жене
С. Есенин».
29 октября 1922 года в газете «Нью-Йорк Хегард» Авраам Ярмолинский опубликовал рецензию на книгу Есенина «Пугачёв».
О встречах с Есениным А.Ярмолинский вспоминал: «Если не ошибаюсь, в первый раз мы встретились в Публичной библиотеке (на Пятом авеню), где я заведовал славянским отделом. В разговоре, помнится, меня несколько озадачила «коммерческая жилка» поэта…Есенин предложил мне свои услуги по снабжению Публичной библиотеки советскими изданиями. В связи с этим он упомянул, что в Москве он торгует книгами и что у него там есть книгоиздательство.Удивил меня Есенин и своим предложением издать в Нью-Йорке сборник его стихов в моём переводе. Правда, у него не было на руках его книги, но это не помеха: он по памяти напишет выбранные им для включения в книжку стихи.
Я не принял всерьёз это предложение. Но оказалось, что он действительно верил в возможность издания сборника. Через несколько дней я навестил его в гостинице «Валдорф-Астория», которая тогда помещалась на Пятом авеню, угол 34-й улицы. Есенин сидел в халате за круглым столом, на столе лежало большое надкушенное яблоко… Раза два тяжеловесная фигура Айседоры промелькнула в глубине обширной комнаты. Когда я собрался уходить, Есенин небрежно сорвал с бювара лист запачканной кляксами промокательной бумаги, согнул его пополам и в эту импровизированную папку вложил тут же пачку листов бумаги. Затем на обложке написал карандашом: «Сергей – Essenin - Russia - Стихи и поэмы – Перевод Ярмолинского».
Рукопись – я её сохранил - состоит из девятнадцати листов, исписанных карандашом. Почерк неказистый, разборчивый, буквы в словах отделены одна от другой. Имеется текст следующих стихотворений: «Исповедь хулигана», «Песнь о собаке», «Хулиган», «Закружилась листва золотая», «Корова», «В том краю, где жёлтая крапива», «Не жалею, не зову, не плачу», «Кобыльи корабли»…
Я сравнивал эти страницы с печатным текстом московского издания стихов и прозы Есенина, вышедшего в 1926-27 гг. и нашёл, что Есенин воспроизвёл свои стихи по памяти с поразительной верностью… Впрочем, дальше составления рукописи Есенин не пошёл. Передав её мне, он, видимо, потерял интерес к своей затее и мы больше не встречались».
Ещё об одном проекте, которому не суждено было осуществиться в Америке, вспоминал Вениамин Левин: «Мы почти каждый день встречались в его отеле и в общей беседе склонялись, что хорошо бы создать своё издательство чистой поэзии и литературы без вмешательства политики - в Москве кричали «вся власть Советам», а я предложил Есенину лозунг: «вся власть поэтам». Он радостно улыбался, и мы рассказали об этом Изадоре. Она очень обрадовалась такому плану и сказала, что её бывший муж Зингер обещал ей дать на устройство балетной школы в Америке шестьдесят тысяч долларов – половину этой суммы она определила нам на издательство на русском и английском языках. Мы были полны планов на будущее, и Есенин уже смотрел на меня как на своего друга-компаньона… Но у него было не так уж много надежд на жизнь в Америке без России. Он был исключительно русским…».
12 ноября 1922 г. из Нью-Йорка Есенин писал Мариенгофу:
«Лучше всего, что я видел в этом мире, это всё-таки Москва…
О себе скажу (хотя ты всё думаешь, что я говорю для потомства): что я впрямь не знаю, как быть и чем жить теперь…
Раньше подогревало то, при всех российских лишениях, что вот, мол, «заграница», а теперь, как увидел, молю Бога не умереть душой и любовью к моему искусству.
Милый Толя. Если б ты знал, как вообще грустно, то не думал бы, что я забыл тебя, и не сомневался, как в письме к Ветлугину, в моей любви к тебе. Каждый день, каждый час, и ложась спать, и вставая, я говорю: сейчас Мариенгоф в магазине, сейчас пришёл домой, вот приехал Гришка, вот Кроткие, вот Сашка, и т.д. и т.д. В голове у меня одна Москва и Москва.
Даже стыдно, что так по-чеховски…
Сегодня в американской газете видел очень большую статью с фотографией о Камерном театре, но, что там написано, не знаю, зане никак не желаю говорить на этом проклятом аглицком языке…
Конечно, во всех своих движениях столь же смешон для многих, как француз или голландец на нашей территории…
Боже мой, лучше было есть глазами дым, плакать от него, но только бы не здесь, не здесь…
Здесь имеются переводы тебя и меня в издании «Modern Russian Poetry», но всё это очень убого. Знают больше по имени, и то не американцы, а приехавшие в Америку евреи. По-видимому, евреи самые лучшие ценители искусства, потому ведь и в России, кроме еврейских девушек, никто нас не читал».
Вениамин Левин рассказывал, как «удалось ошельмовать самого яркого представителя русского антиматериализма, антибольшевизма, ошельмовать до такой степени, что ему стало невозможно самоё пребывание» в Америке, как на Есенина «приклеили ярлык большевизма и антисемитизма» и надежды Есенина на заграницу не сбылись, и «что причина трудности лежит не в стране, а в людях». Как-то Есенину «одна русская нью-йоркская газета, «левая», предложила устроить литературное выступление и дала ему пятьдесят долларов аванса. Он сначала согласился, а потом отказался, вернув аванс, он понял несовместимость его связи с партийной газетой, и Изадора была этим тоже довольна. Но где-то чувствовались вокруг них люди, которым нужно было втянуть их в политическую борьбу и сделать их орудием своей страсти. В такой свободной стране, как Америка, именно в те дни трудно было объяснить людям, что можно оставаться прогрессивными и всё-таки быть против коммунистической политики, пытающейся всё вовлечь в свою сферу, удушить всё, что не подходит под их норму. Что Есенин им не подходил, они это понимали, но он уже имел огромное имя в литературе, а вместе с Дункан он уже представлял символ связи России и Америки в период после русской революции. Им это лишь и нужно было использовать. Но Есенин не дался. И они это запомнили»…
Однажды Есенин был приглашён на вечеринку к Брагинским. «Обычно Есенин приезжал к ним один, но на этот раз он приехал в их скромную квартиру (на шестом этаже дома без лифта, в Бронксе) вместе с Айседорой в сопровождении Левина и Гребнева». «…сравнительно небольшая квартира еврейского рабочего поэта была до отказа набита людьми, мужчинами и женщинами разного возраста хорошо, но просто одетыми. Все собрались поглядеть на танцовщицу Изадору и её мужа, поэта русской революции… Есенин сразу почувствовал, что попал на зрелище…Собрались выходцы из России, большей частью из Литвы и Польши, рабочие, как-то связанные интересами с литературой.Сам Мани-Лейб, высокий, тонкий, бледный, симпатичный, несомненно даровитый поэт и жена его Рашель, тоже поэтесса, встретили гостей добродушно и радостно. …
…начался вечер богемы в Бронксе. Какие-то незнакомые мужские фигуры окружили Изадору. Она улыбалась всем мило и радостно… При всём обществе Рашель обняла Есенина за шею и говорила ему что-то на очень плохом русском языке. Всем было ясно, что всё это лишь игра в богему, совершенно невинная, но просто неразумная…». «Спиртные напитки были тогда запрещены, но, как известно, незаконная торговля ими процветала. В тот вечер у Брагинских было много выпито…». «…Я слышал фразочки некоторых дам: «Старуха-то, старуха-то – ревнует!..». Это говорилось по-еврейски… и говорилось это об Изадоре: это она была «старуха» среди них, лет на десять старше, но главное, милостью Божьей великая артистка, и ей нужно было досадить».
«До известной степени это был литературный вечер. Хозяин декламировал свои переводы из Есенина, Левин прочёл его «Товарища», а сам Есенин - монолог Хлопуши из «Пугачева». И когда Есенина снова попросили читать, он прочёл отрывок из «Страны Негодяев», включающий в себя разговор Чекистова с Замарашкиным:
«Замарашкин
Слушай, Чекистов!..
..я знаю, что ты
Настоящий жид.
Фамилия твоя Лейбман,
И чёрт с тобой, что ты жил
За границей…
Всё равно в Могилёве твой дом.
Чекистов
Ха-ха!
Ты обозвал меня жидом?
Нет, Замарашкин!
Я гражданин из Веймара
И приехал сюда не как еврей,
А как обладающий даром
Укрощать дураков и зверей.
…Видишь ли… я в жизни
Был бедней церковного мыша
И глодал вместо хлеба камни.
Но у меня была душа,
Которая хотела быть Гамлетом»….
«Легко представить себе впечатление, которое это произвёло на публику, состоявшую сплошь из евреев». «…А новые люди всё прибывали в квартиру, уже невозможно было сидеть, - все стояли, чуть- чуть передвигаясь со стаканами вина в руках…Есенин был в мрачном настроении. Изадора это заметила и постаралась освободиться от рук нескольких мужчин, налегавших на неё. Она придвинулась к нему и очень мило оттёрла от него Рашель. А он разгорался под влиянием уже вина. И огромная неожиданная толпа, которая пришла глазеть на них, и невозможность высказать всё, что хотелось, и вольное обращение мужчин с его Изадорой, и такое же обращение женщин с ним самим, а главное - вино: и вдруг он, упорно смотревший на лёгкое платье Изадоры, схватил её так, что ткань затрещала и с матерной бранью не отпускал….а она, тихая и смиренная, покорно стояла против него, успокаивая его и повторяя те же слова… На Изадоре что-то оказалось порванным и её оттёрли от Есенина, увели в соседнюю комнату… Изадора не показывалась… Есенин стал нервно кричать: «Где Изадора? Где Изадора?». Он не заметил, что она в другой комнате. Ему сказали, что она уехала домой. Он бросился в прихожую, шумел, кричал….Ещё момент - и я увидел Есенина, бегущего вниз в одном пиджачке. За ним неслись Мани-Лейб и ещё несколько человек. Есенина втащили обратно, он упирался и кричал…».
По рассказу Мани-Лейба, Есенин вторично бежал из квартиры. Мани-Лейб ещё с некоторыми, с ними и Файнберг, нагнали его. Их остановил полицейский… Снова пришли в квартиру. Есенин сделал попытку на лестнице выброситься в окно пятого этажа. Его схватили, он боролся.
- Распинайте меня! Распинайте меня! - кричал он.
Его связали и уложили на диван. Тогда он стал кричать:
- Жиды! Жиды! Жиды проклятые!
Мани-Лейб ему говорил:
- Слушай, Сергей, ты ведь знаешь, что это оскорбительное слово, перестань.
Сергей умолк, а потом, повернувшись к Мани-Лейбу, снова сказал настойчиво:
- Жид.
Мани-Лейб сказал:
- Если ты не перестанешь, я тебе сейчас дам пощечину.
Есенин снова повторил вызывающе:
- Жид.
В ответ на пощёчину Есенин плюнул ему в лицо. Мани-Лейб выругал его. Но это разрядило атмосферу. Есенин полежал некоторое время свящанный, успокоился и вдруг почти спокойно заявил:
- Ну, развяжите меня, я поеду домой».
Кончилось это всё тем, что Есенин всё-таки уехал. По одной версии, его отвезли в гостиницу, по другой, несмотря на своё невменяемое состояние, он умудрился один нанять такси и благополучно добрался до отеля. Айседора предпочла остаться ночевать у Брагинских.
На другой день Брагинские навестили виновника скандала и восстановили с ним дружеские отношения. Есенин счёл нужным также послать им письменное извинение:
«Милый, милый Монилейб!
Вчера днём вы заходили ко мне в отель, мы говорили о чём-то, но о чём я забыл, потому что к вечеру со мной повторился припадок. Сегодня я лежу разбитый морально и физически. Целую ночь около меня дежурила сест. милосердия. Был врач и впрыснул морфий.
Дорогой мой Мони Лейб! Ради Бога простите и не думайте обо мне, что я хотел что-нибудь сделать плохое или оскорбить кого-нибудь.
Поговорите с Ветлугиным, он вам больше расскажет. Это у меня та самая болезнь, которая была у Эдгара По, у Мюссе. Эдгар По в припадках разб. целые дома.
Что я могу сделать, мой Милый Монилейб, дорогой мой Монилейб! Душа моя в этом невинна, а пробудившийся сегодня разум повергает меня в горькие слёзы, хороший мой Мони Лейб! Уговорите свою жену, чтоб она не злилась на меня. Пусть постарается понять и простить. Я прошу у Вас хоть немного ко мне жалости.
Любящий вас всех
Ваш С. Есенин.
Передайте Гребневу все лучшие чувства к нему. Все ведь мы поэты братья. Душа у нас одна, но по-разному она бывает больна у каждого из нас. Не думайте, что я такой маленький, чтобы мог кого-нибудь оскорбить. Как получите письмо, передайте всем мою просьбу простить меня».
Когда Левин наведался к Есенину через два дня после вечеринки, тот емуобъяснил, что дебоширство его закончилось припадком эпилепсии, которую он унаследовал от деда. В одном из его стихотворений, датированном 23-м годом, Есенин говорит о себе: «Одержимый тяжелой падучей»…
«Есенин не был совсем вне себя во время скандала у Мани-Лейба». «Он мог притвориться, что страдает заболеванием, чтобы объяснить им своё поведение, а ореол «священной болезни» ему, возможно, льстил», - и подтверждение тому - рассказ Вениамина Левина о дарственной надписи Есенина Мани-Лейбу на книге: Сергей Александрович Есенин. Собрание стихов и поэм. Т. 1. Берлин, Пб., М.: Изд. З.И.Гржебина, 1922. «Как раз после истории в Бронксе Есенин получил пачку авторских экземпляров своей книжки, вышедшей в Берлине в издательстве Гржебина. Одну такую книжку он подарил мне с трогательной надписью: «с любовью…» («Дорогому Вениамину Менделевичу с любовью. С.Есенин. 1923. янв. Н.Йорк»). Другой экземпляр он подарил Мани-Лейбу с надписью: «Дорогому другу – жиду Мани-Лейбу». И многозначительно посмотрев на него, сказал: «Ты меня бил». Значит, он помнил события в Бронксе. Мани-Лейб мне признался, что он молча взял книжку, но, выйдя из отеля, зачеркнул слово «жиду»…».
«С каким-то публичным юмором» Есенин рассказывал Александру Яблоновскому: «Какие-то, понимаете, два джентельмена в тугих воротниках и с перстнями на пальцах… пришли за кулисы и стали мне накладывать… Очень здоровы драться эти американцы! Шею так накостыляли, что лучше быть не может!..
- А правда ли, что ты жену бил в Америке и что полиция даже прибежала?
- Вот уж не помню… но едва ли, впрочем, ножкой от стула…
И о женитьбе своей…:
- Утром, понимаете, просыпаюсь и думаю, что такое за история с географией? Комната приличная, постели приличные, и я на постели лежу. Куда это угораздило меня вчера? Должно быть, учреждение это приличное и дорогое, ещё хватит ли денег расплатиться? Как смотрю, приличная дама входит и кофий на подносе несёт: «Доброго утра, муженёк…». Оказывается, вчера женился…».
Представляется не только предельно искренним самовыраженим, но и мастерски отрежиссированным и сыгранным с установкой на «скандал – это искусство» (а ругань в адрес Андреевой - вполне возможно, ответная реакция Есенина на отношение Горького к его Изадоре во время встречи в Берлине на квартире Горького в 1922 году, которое после смерти Есенина пролетарский классик не преминул «увековечить» в своих воспоминаниях), и вечер в Берлине в Шуберт-зале уже по пути возвращения в Россию в 1923 году:
«Есенин вышел на эстраду. Он был вдребезги пьян, качался из стороны в сторону, и в правой руке держал фужер с водкой, из которого отпивал. Когда аплодисменты стихли, вместо стихов Есенин вдруг начал ругать публику, говорить какие-то пьяные несуразности и почему-то, указывая пальцем на Марию Федоровну Андрееву, сидевшую в первом ряду, стал её крыть не совсем светскими словами… В публике поднялся шум, протесты, одни встали с мест, другие кричали: «Перестаньте хулиганить. Читайте стихи!». …пытались Есенина увести, но Есенин упёрся, кричал, хохотал, бросил, разбив об пол свой стакан с водкой. И вдруг закричал: «Хотите стихи?!... Пожалуйста, слушайте!»…
В зале не сразу водворилось спокойствие. Есенин начал «Исповедь хулигана». Читал он криком всей душой, очень искренне, и скоро весь зал этой искренностью был взят. А когда он надрывным криком бросил в зал строки об отце и матери:
«Они бы вилами пришли вас заколоть
За каждый крик ваш, брошенный в меня!», -
ему ответил оглушительный взрыв рукоплесканий… Публика устроила ему настоящую овацию…».
После вечера, с 27 на 28 января 1922 года, в Бронксе у Мани-Лейба «во многих американских газетах появились статьи с описанием скандального поведения русского поэта-большевика, «избивавшего свою жену-американку, знаменитую танцовщицу Дункан». Всё было как будто правдой и в то же время неправдой. Есенин был представлен «антисемитом и большевиком»… (Лейб Файнберг… много лет спустя говорил: «Нет, Есенин не был антисемитом в глубоко укоренившемся «философском» смысле… Как-то он провозгласил всемирную любовь к евреям и еврейским друзьям. На следующий день он назвал тех же друзей «грязными евреями…»).
«Этот газетный скандал имел свои последствия. Концертные выступления Дункан по Америке стали невозможны… Зингер, который обещал ей материальную поддержку для устройства студии, … уже не давал о себе знать. <…>
Дни пребывания Есенина и Изадоры в Америке были сочтены. После истории в Бронксе им только и оставалось скорей сесть на пароход и ехать в Европу… Друзья отвернулись, за исключением очень немногих, газеты тоже. Кто-то сделал своё дело блестяще, причислив Есенина в лагерь большевиков. Какая была бы это сила, если б удалось сохранить её для борьбы за свободу России!».
В описаниях их отъезда газеты Нью-Йорка не проявили интереса к Есенину…
«Провожающих было всего несколько человек. Изадора жаловалась, что никто даже цветов не прислал».
Уезжая, она заявила журналистам: «Если бы я приехала в эту страну как большой финансист за займом, мне бы был оказан великолепный прием, но так я приехала как признанная артистка, меня направили на Эллис-Айленд в качестве опасного человека и опасного революционера. Я не анархист и не большевик. Мой муж и я являемся революционерами, какими были все художники, заслуживающие этого звания. Каждый художник должен быть революционером, чтобы оставить свой вклад в мире сегодняшнего дня».
Есенин пробыл в Америке ровно четыре месяца, с 3 октября 1922 года по 3 февраля 1923 года, когда вместе с Айседорой отплыл в Европу.
В Америке Есенин задумал поэму о Нью-Йорке и о статуе Свободы, продолжал работать над «Страной Негодяев», подготовил к изданию не вышедшие за рубежом сборники: «Ржаные кони» (поэмы) и «Голубень» (стихи), «Исповедь хулигана», «Стихи и поэмы», Антологию стихов 1918-1922. Здесь он начал писать поэму «Чёрный человек»:
…Голова моя машет ушами,
Как крыльями птица,
Ей на шее ноги
Маячить больше невмочь…
… Чёрный человекЧитает мне жизнь
Какого-то прохвоста и забулдыги,
Нагоняя на душу тоску и страх…
… «Слушай, слушай, -Бормочет он мне, -
…Этот человек
Проживал в стране
Самых отвратительных громил и шарлатанов.
В декабре в той странеСнег до дьявола чист,
И метели заводят
Весёлые прялки.
Был человек тот авантюрист,
Но самой высокой
И лучшей марки.
Был он изящен,К тому ж поэт,
Хоть с небольшой,
Но ухватистой силою,
И какую-то женщину,
Сорока с лишним лет,
Называл скверной девочкой
И своею милою».
«Счастье, - говорил он, -Есть ловкость ума и рук.
Все неловкие души
За несчастных всегда известны.
Это ничего,
Что много мук
Приносят изломанные
И лживые жесты
В грозы, в бури,В житейскую стынь,
При тяжёлых утратах
И когда тебе грустно,
Казаться улыбчивым и простым –
Самое высшее в мире искусство»...
2 февраля 1923 года Айседора Дункан и Сергей Есенин получили разрешение от Генерального Консульства в Париже на въезд во Францию.
3 февраля 1923 они взошли на борт лайнера США «Джордж Вашингтон» («George Washington») и отправились в Шербур. 7 февраля 1923 года с борта парохода Есенин писал в Париж Александру Кусикову:
«Милый Сандро!
Пишу тебе с парохода, на котором возвращаюсь в Париж! Едем вдвоём с Изадорой. Ветлугин остался в Америке. Хочет испытать судьбу по своим «Запискам», подражая человеку с коронковыми зубами.
Об Америке расскажу после. Дрянь ужаснейшая, внешне типом сплошное Баку, внутри Захер-Менский, если повенчать его на Серпинской.
Вот что душа моя! Слыхал я, что ты был в Москве. Мне оч. бы хотелось знать кой-что о моих делах. Толя мне писал, что Кожеб. и Айзенш. из магазина выбыли. Мне интересно, на каком полозу теперь в нём я, ибо об этом в письме он по рассеянности забыл сообщить.
Сандро, Сандро! Тоска смертная, невыносимая. Чую себя здесь чужим и ненужным, а как вспомню про Россию, вспомню, что там ждёт меня, так и возвращаться не хочется. Если б я был один, если б не было сестёр, то плюнул бы на всё и ухал бы в Африку или ещё куда-нибудь.
Тошно мне, законному сыну российскому в своём государстве пасынком быть. Надоело мне это блядское снисходительное отношение власть имущих, а ещё тошней переносить подхалимство своей же братии к ним.
Не могу! Ей Богу не могу. Хоть караул кричи или бери нож да становись на большую дорогу.
Теперь, когда от революции остались только хрен да трубка, теперь, когда там жмут руки тем, кому лижут жопы – кого раньше расстреливали, теперь стало очевидно, что мы и были и будем той сволочью, на которой можно всех собак вешать.
Слушай, душа моя! Ведь и раньше ещё там в Москве, когда мы к ним приходили, они даже стула не предлагали нам присесть. А теперь, теперь злое уныние находит на меня. Я перестаю понимать, к какой революции я принадлежал. Вижу только одно, что ни к февральской, ни к октябрьской, по-видимому. В нас скрывался и скрывается какой-нибудь ноябрь. Ну да ладно. Оставим этот разговор про Тётку. Пришли мне, душа моя, лучше, что привёз из Москвы нового… И в письме опиши всё. Только гадостей, которые говорят обо мне, не пиши. Запиши их лучше у себя «на стенке над кроватью».
Напиши мне что-нибудь хорошее, тёплое и весёлое, как друг. Сам видишь, как я матерюсь. Значит, больно и тошно.
Твой Сергей.
Paris Rue de la Pompe 103
(сто три)
Атлантический океан
7 февраля 1923».
15 февраля, как сообщали газеты Франции и Америки, «ещё более невероятное буйство произошло в Париже, когда Есенин и Айседора, вернувшись из Америки, остановились в фешенебельном «Hotel Crillon». Здесь… Есенин перебил зеркала, переломал мебель. Айседора спаслась бегством: бросилась вызвать доктора. Но когда вернулась, Есенина не застала. Его арестовала французская полиция. Только с помощью каких-то влиятельных друзей Айседоре удалось освободить Есенина, тут же уехавшего в Германию». ( Но из Германии они снова вернулись в Париж, и только получив паспорт для проезда в Германию без права возвращения во Францию, они отправились в Берлин теперь уже «по пути в Москву»). «Вчера я увидела, что наступает кризис и пошла за доктором. Когда я вернулась, всё в комнате было перебито. Именно тогда я подумала, что Есенину лучше возвратиться в Россию», - говорила Айседора. В ответ на многочисленные публикации, в американских газетах «Трибюн» и «Геральд», издаваемых в Париже, было напечатано письмо Айседоры Дункан: «…Я знаю, что в обычаях американской журналистики делать посмешище из чужих бед и несчастий, но, поистине, молодой поэт, который с восемнадцати лет знал только ужасы войны, революции и голода, заслуживает скорее слёз, нежели насмешек… я вывезла Есенина из России, где условия его жизни были чудовищно трудными, чтобы сохранить его гений для мира. Он возвращается в Россию, чтобы сохранить свой рассудок, и я знаю, что многие сердца по всему миру будут молиться со мной, чтобы этот великий и наделённый воображением поэт был бы спасён для своих будущих творений, исполненных Красоты, в которой мир столь нуждается». Устав объяснять происходившее, Айседора однажды сказала: «Сергей обожает землю, по которой я хожу, когда он сходит с ума, он может убить меня – и тогда он любит меня намного больше».
Боясь «испортить» свой русский язык, Есенин всё же занимался изучением анлийского языка во Франции с Габриэль Мармион, но написал латиницей - русские слова:
«Milaya Isadora
ya ne mogu bolshe
hochu domoi
Sergei».
Здесь же, в Париже, написал стихотворение «Эта улица мне знакома».
…Не искал я ни славы, ни покоя,
Я с тщетой этой славы знаком.
А сейчас, как глаза закрою,
Вижу только родительский дом.
Вижу сад в голубых накрапах,
Тихо август прилёг ко плетню.
Держат липы в зеленых лапах
Птичий гомон и щебетню.
…Только ближе к родимому краю
Мне б хотелось теперь повернуть….
А. Ветлугин в газете «Русский голос» 26 ноября 1923 года отвечал журналистам и сплетникам: «Радуйтесь, идиоты!.. Да, человек Есенин болен тою же болезнью, от которой погибли Магомет, Достоевский. «Священная болезнь» - падучая.
Да, у него периодические припадки…
Да, первый встречный искатель навоза может, напоив Есенина пьяным, вызвать его буйный припадок, спровоцировать его на самый ужасный поступок.
Да, в таких встречных не было недостатка ни в Париже, ни в Нью-Йорке, ни в Венеции, ни в Москве. В каждом городе, где был Есенин, находились садисты – любители созерцать падение высокой личности».
Когда десятого декабря 1923 года в Доме печати в Москве состоялся товарищеский суд над Есениным, Клычковым, Орешиным и Ганиным по обвинению их в «черносотенно-антисемитских выходках», московский корреспондент Нью-Йоркского «Таймса» в своей телеграмме сообщал, что один из свидетелей, вызванный защитой, «торжественно уверял суд, что американский самогон (bootleg whiskey) был причиной того патологического расстройства, которым страдал Есенин».
Замученный бесконечными обвинениями в антисемитизме, в большевизме, в антикоммунизме, сам Есенин осенью 1923 года как бы ставит точку в объяснении неизбежности этих столкновений в России и Америке: «Я очень здоровый и потому ясно осознаю, что мир болен, у здорового с больным произошло столкновение, отсюда произошёл весь тот взрыв, который газеты называют скандалом… Дело в том, что я нарушил спокойствие мира».Вспоминая Есенина, Вениамин Левин писал: «…он возвратился в Советский Союз, где хорошо знали его «как веруеши», все его слабые человеческие места, и на них-то и построили «конец Есенина».
«Его хвалили, его ласкали, его отметил «сам Троцкий»… но чем больше хвалили, тем сильнее было желание сорвать скатерть с советского стола, - писал в воспоминаниях о нём журналист, прозаик Александр Яблоновский (наст. фамилия Снадзский), - …это был колокольчик, подвешенный на шею советского осла…конечно, советский осел не поймет, почему с его шеи упал колокольчик. Но пора уже и понять…».
Владислав Ходасевич позднее писал, что «трагедия Есенина превращается вообще в трагедию человека, оскорбленного низостью того, что считал он своим идеалом».
Криком отчаяния отозвался Сандро Кусиков на смерть Есенина в некрологе «Неужели это случилось?», опубликованном в газете «Парижский вестник» 30 декабря 1925 года. И «первой своей любовью» его назвал, и вспоминал, как писался цикл «Москва кабацкая» после долгих бесед в ночи, под его гитару. А потом, 10 января 1926 года опубликовал воспоминания памяти Есенина «Только раз ведь живем мы, только раз», где глубоко и тонко подметил в Есенине характернейшую черту самоубийц – ни с кем и ни с чем несравнимое жизнелюбие: «Никогда я не встречал человека, так любящего жизнь, по-звериному любящего, как Есенин, ни у кого я не наблюдал такого страха перед смертью, как у него». В своём отклике на гибель друга писал: «В 1922 году мы встретились с ним за границей. Но Запад и заокеанские страны ему не понравились. Вернее, он сам не хотел, чтобы всё это, виденное им впервые, понравилось ему. Безграничная, порой слепая, есенинская любовь к России, как бы запрещала ему влюбляться… Берлин, Париж, Нью-Йорк – затмились. Есенин увидел «Россию зарубежную. Россию без родины»:
Снова пьют здесь, дерутся и плачут
Под гармоники жёлтую грусть.
Проклинают свои неудачи,
Вспоминают московскую Русь.
И я сам, опустясь головою,
Заливаю глаза вином,
Чтоб не видеть в лицо роковое,
Чтоб подумать хоть миг об ином.
Что-то всеми навек утрачено.
Май мой синий! Июнь голубой!
Не с того ль так чадит мертвячиной
Над пропащею этой гульбой
Ах, сегодня так весело россам,
Самогонного спирта – река.
Гармонист с провалившимся носом
Им про Волгу поёт и про Чека.
Что-то злое во взорах безумных,
Непокорное в громких речах.
Жалко им тех дурашливых, юных,
Что сгубили свою жизнь сгоряча.
Жалко им, что октябрь суровый
Обманул их в своей пурге.
И уж удалью точится новой
Крепко спрятанный нож в сапоге.
Где ж вы те, что ушли далече?
Ярко ль светят вам наши лучи?
Гармонист спиртом сифилис лечит,
Что в киргизских степях получил.
Нет! таких не подмять, не рассеять!
Бесшабашность им гнилью дана.
Ты, Рассея моя… Рас…сея… Азиатская сторона!
Запил Есенин. Пребывание за границей сделалось для него невыносимым. Нужно было возвращаться домой. Он уехал».
Существовал ещё один текст этого стихотворения, который Есенин читал с эстрады:
Защити меня, влага нежная.
Май мой синий, июнь голубой.
Одолели нас люди заезжие,
А своих не пускают домой.
Знаю, если не в далях чугунных
Кров чужой и сума на плечах,
Только жаль тех дурашливых, юных,
Что сгубили себя сгоряча.
Жаль, что кто-то нас смог рассеять
И ничья непонятна вина.
Ты Расея моя, Расея, азиатская сторона.
Слова «своих не пускают домой» имели под собой определённую почву: после всех заграничных скандалов Есенин опасался, что его могут в Россию не пустить, о чём он писал в одном из своих писем из зарубежа.
Это стихотворение, вошедшее в цикл «Москва кабацкая», который отдельной книгой Есенин готовил к печати за рубежом и затем в Москве, впервые было опубликовано в сборнике «Стихи скандалиста», вышедшем в 1923 году в Берлине в издательстве И.Т. Благова. 20 марта 1923 года Есенин написал «Вступление» к этому своему сборнику:
«Я чувствую себя хозяином в русской поэзии и потому втаскиваю в поэтическую речь слова всех оттенков, нечистых слов нет. Есть только нечистые представления. Не на мне лежит конфуз от смелого произнесенного мной слова, а на читателе или на слушателе. Слова – это граждане. Я их полководец. Я веду их. Мне очень нравятся слова корявые. Я ставлю их в строй как новобранцев. Сегодня они неуклюжи, а завтра будут в речевом строю такими же, как и вся армия.
Стихи в этой книге не новые. Я выбрал самое характерное и что считаю лучшим. Последние 4 стихотворения «Москва кабацкая» появляются впервые».
В этом издании в цикл были включены: «Да! Теперь решено. Без возврата», «Снова пьют здесь, дерутся и плачут», «Сыпь, гармоника! Скука… Скука», «Пой же, пой. На проклятой гитаре». Весь цикл был посвящён «А.Б. Кусикову».
Цикл «Москва кабацкая» начал складываться Есениным в период его зарубежной поездки. В апреле-июне 1923 года в период пребывания во Франции Есенин задумывает издание цикла отдельной книгой. Сохранилась подготовленная автором обложка «Есенин. Москва кабацкая. Имажинисты. Париж, 1923».
По возвращении на родину Есенин продолжил попытки издания книги. В конце 1923 он пытался выпустить её в Издательстве ГУМа, потом, уже в 1924 году, в Ленинградском отделении Госиздата: Сергей Есенин. Москва кабацкая. Издание автора, - посвящая «С глубоким уважением Георгию Феофановичу Устинову», куда должны были войти «Я обманывать себя не стану», «Да! Теперь решено. Без возврата», «Снова пьют здесь, дерутся и плачут», «Сыпь, гармоника! Скука… Скука», «Пой же, пой. На проклятой гитаре», «Эта улица мне знакома», «Мне осталась одна забава»; в одном из вариантов было добавлено «Не ругайтесь! Такое дело!».
Одновременно группа предпринимателей И.С. Морщинер, Е.Д. Иоффе и другие начала пытаться выпустить сборник частным порядком в авторском издании. Этот сборник «Москва кабацкая» вышел в Ленинграде в июле 1924 года.
Ни один из циклов Есенина не вызвал в критике такого бурного обсуждения, как «Москва кабацкая». Первые отклики появились ещё до выхода сборника в России в 1924 году, после публикации этого цикла в Берлине в 1923 году и после публичных выступлений поэта с чтением этих стихов.
А когда вышла из печати «Москва кабацкая», хромающая в разных изданиях то на изъятие стихотворений, то на вычеркнутые строфы, эти новые стихи на его родине запуганная режимом критика стала объяснять читающей публике как хулиганство и даже бездарность автора.
Вячеслав Завалишин отмечал, что «…в слово «хулиганство» Сергей Есенин вкладывал совсем иной смысл…: для него хулиганство – это бешеный, страстный протест человеческой личности против порабощения её коллективом, против тех, кто делает толпу слепым и послушным орудием своей воли».
«Страшными, мастерскими и искренними» назвал стихи этого цикла Есенина Александр Воронский.
Николай Светлов в своём отклике «Стихи скандалиста», опубликованном в харбинской газете «Русский голос» 5 августа 1924 года, писал: «Известный московский критик А.Воронский посвятил «Стихам скандалиста» подробную статью, где пытался объяснить появление этой книги нэпом и мрачным уклоном московской художественной богемы в кабацкой жизни. Всё же он отнёсся к стихам Есенина очень серьёзно, усмотрев в них «печальное знамение времени». Но мы думаем, что «Стихи скандалиста» не результат упадочных нравов московской богемы, всегда и везде одинаковой, и не нэп надо винить в хулиганском уклоне лирики части московских поэтов. В этом виноват тупик, куда пронизавшая искусство коммунистическая тенденция гонит поэзию. Критик-коммунист, конечно, должен был проглядеть истинную разгадку явления. А она дана самим Есениным, она есть в самой поэме «Москва кабацкая». Вот она: «Жалко им, что октябрь суровый /Обманул их в своей пурге,/ Но уж точится удалью новой/ Крепко спрятанный нож в сапоге». Это поёт деревня, обречённая большевиками на гибель, это народ сопротивляется коммунистическим нажимам, отстаивая свою веру и свою волю. Новая удаль накапливается в оторванном от привычного быта бездомном бродяге-хулигане – не крестьянине и не рабочем, - ещё тоскующем в кабаках, но уже разглядевшем в «суровой пурге октября» очертания своего смертного врага».
«За границей он работал мало», «почти ничего не написал, одно-два стихотворения», - в один голос писали о Есенине. Но даже если бы это было так, много дал, кто в те дни «всё дал – песню дал». Как-то один из друзей Есенина заметил: «Вечно ты шатаешься, Сергей! Когда же ты пишешь?» – «Всегда», - был ответ. Не случайно именно то, что Есениным было написано, задумано и продолжено за рубежом, в России впервые запрещалось, выбрасывалось цензорами и даже самим Есениным редактировалось, чтобы опубликовать. За рубежом Есениным было написано то, что в то время можно было написать и, конечно же, опубликовать, только под статуей Свободы.
На Западе и даже в Америке не было и нет той свободы, на которую он надеялся, которой он мог бы дышать, – той воли, за которую всем во всём мире плата – распятие, а для него за свободу в его единственной в целом свете любимой России расплата – петля. И «выходов нет», и «нет выхода» для поэта в его «пути заветном» при всех режимах и во все времена. И пошли из-под его пера «страшные, искренние строчки, на которых, как никогда прежде ни на каких есенинских, появляются росчерки цензоров в России: «убрать», «выкинуть», «запрещено цензурой».
Может быть, один только Георгий Устинов, сам талантливый, но до самозабвения преданный победившему режиму, понимал, насколько неисправимым был Есенин: «самый неисправимый психобандит» - так он сказал о нём, проникая в суть его творчества, в суть самого поэта, умевшего быть «улыбчивым и простым», но даже при желании писать по линии и при обучении его «товарищеской работой совместно с коммунистами» не сумевшего отдать «всю душу октябрю и маю», строчки свои пытаясь переделать, видя необходимость «стелить себя», чтобы «всё пошло хорошо»: «человек не бревенчатый дом, не всегда переделаешь наново». Джин, живший не в бутылке, в эту бутылку не то что жить, влезть ни по чьей «линии» не мог: «Писать по линии совершенно невозможно. Будет такая тоска, что мухи сдохнут». «Жизнь моя за песню отдана», - сказал, как выдохнул, Есенин, в черновике одного из своих стихотворений.В очерке об Америке, полемизируя и соглашаясь со статьёй Троцкого о современном искусстве, Есенин писал: «Прочёл о себе и грустно улыбнулся. Мне нравится гений этого человека, но видите ли?.. Видите ли?.. Впрочем, он замечательно прав, говоря, что я вернусь не тем, чем был. Да, я вернулся не тем. Много дано мне, но и много отнято. Перевешивает то, что дано». Ему была дана та свобода, которой он был сроден.
В Америке он начал писать «Чёрного человека», а 12-14 ноября 1925 года в России он отредактировал и сдал в печать текст, который стал «короче и менее трагичен» чем тот, который он читал в августе 1923 года сразу по возвращении на родину. «Чёрного человека» надо было переделывать, чтобы опубликовать.
И «Страну Негодяев» можно было опубликовать, только ломая рифму, заменяя слово «жид» на «еврей» и выбрасывая целую строчку с этим словом. И, конечно же, не могли и не хотели пропускать откровенно враждебные режиму строчки (из публикации в публикацию повторяя набившие оскомину слова о незаконченности поэмы) и ещё долго печатали и перепечатывали слова комиссара Рассветова и строили на этих цитатах критические работы о самом Есенине:
…вся Америка – жадная пасть,
Но Россия … вот это глыба…
Лишь бы только советская власть!..
Мысль о написании «Страны Негодяев» появилась у Есенина в России тотчас же по выходе «Пугачёва». «Пугачёв рисовался ему надеждой на новые пути поэту, новой возможностью выразить себя в эти дни, стараясь не дразнить гусей. Быть может это он, Есенин, указал всем поэтам и писателям той эпохи историческую тему, под щит которой можно надежней укрыться от горячих и темных голов литературной партийной критики. Но вскоре же он понял, что этот путь – не для него, не для его темперамента, не для его призвания «пророка по Библии». … после «Пугачёва» он понял, что нужно говорить не шарадами, загадками и притчами, а прямо идти фронтовой атакой, и отсюда пришла его «Страна Негодяев».
В январе 1923 года Есенин делился своими творческими планами, говорил, что он написал пьесу о Пугачеве и теперь пишет «Страну Негодяев» – это о России наших дней. «Страшное имя, хлещущее точно кнут по израненному телу».
«Сказать о родной стране, что она «Страна Негодяев» – только пророк смеет сказать такую жуткую правду о своем народе и своей родине»:
Кто сумеет закрыть окно,
Чтоб не видеть, как свора острожная
И крестьянство так любят Махно?...
…Нужно прямо сказать, открыто,
Что респубика наша – blef,…
…Но только тогда этот ворПолучит свою верёвку,
Когда хоть бандитов сто
Будет качаться с ним рядом,
Чтоб чище синел простор
Коммунистическим взглядам.
В предисловии одного из вышедших за рубежом сборников стихов Сергея Есенина бельгийский писатель Франц Элленс писал: «Два его произведения – «Страна Негодяев» и особенно «Исповедь хулигана» – изображают поэта таким, каким он был, смело и без прикрас».
Главный герой его поэмы «Страна Негодяев» Номах, «Блондин. Среднего роста. 28 лет», - это Махно, но ровно настолько, насколько и Пугачёв в одноимённой поэме Есенина - руководитель антибольшевистского мятежа Антонов; это Монах (так в Константинове звали Сергея Есенина, его деда Никиту Осиповича за то, что поздно женился, в 28 лет, Татьяну Федоровну Есенину – «тётя Таня Монашка»), сам Есенин, насколько лирический герой может быть самим поэтом:
Мне только осталось –
Озорничать и хулиганить…
Банды! Банды!
По всей стране…
…Это все такие же
Разуверившиеся, как я…
…
А когда-то, когда-то…
Веселым парнем,
До костей весь пропахший степной травой,
Я пришел в этот город с пустыми руками,
Но зато с полным сердцем
И не пустой головой.
Я верил…я горел…
Я шел с революцией,
Я думал, что братство не мечта и не сон,
Что все во единое море сольются –
Все сонмы народов,
И рас, и племен…
Пустая забава.
Одни разговоры!
Ну что же?
Ну что же мы взяли взамен?
Пришли те же жулики, те же воры
И вместе с революцией
Всех взяли в плен…
……Все вы носите овечьи шкуры,И мясник пасёт для вас ножи.
Все вы стадо!
Стадо! Стадо!
Неужели ты не видишь? Не поймёшь,
Что такого равенства не надо?
Ваше равенство – обман и ложь.
Старая гнусавая шарманка
Этот мир идейных дел и слов.
Для глупцов - хорошая приманка,
Подлецам – порядочный улов…
…У меня созревает мысль
О российском перевороте,…
…Я не целюсь играть короля
И в правители тоже не лезу,…
Мне хочется вызвать тех,
что на Марксе жиреют, как янки.
…Гамлет восстал против лжи,В котором варился королевский двор,
Но если б теперь он жил,
То был бы бандит и вор…
…Люди устраивают договоры,
А я посылаю их к черту…
Кто смеет мне быть правителем?...
А я – гражданин вселенной,
Я живу, как я сам хочу!
Я теперь вконец отказался от многого,
И в особенности от государства,…
Оттого что постиг я,
Что все это договор,
Договор зверей окраски разной….
Мне до дьявола противны
И те и эти….
Конечно, меня подвесят
Когда-нибудь к небесам.
Ну так что ж!
Это ещё лучше!
Там можно прикуривать о звезды…
Вернувшись в Россию, Айседора Дункан и Сергей Есенин собирались вместе «на юг восстановить силы и заработать», но поехала она одна.
Всю жизнь бездомный, 15 сентября 1923 года вместе с американским писателем Альбертом Рис Вильямсом Есенин отправился в село Верхняя Троица для встречи с М.И.Калининым, выслушал восхищённый отзыв о своих стихах и пожелание возвращаться на родину, в село. В июне 1924 года, побывав в Константинове, Сергей Есенин написал «Возвращение на родину»: «В своей стране я словно иностранец…».
В письме 29 августа 1923 года Есенин писал: «…Был у Троцкого. Благодаря его помощи мне дают сейчас большие средства на издательство…». Есенин надеялся издавать альманах «Россияне». Позднее, когда после очередного скандала ему пришлось дать подписку о невыезде и продолжились, теперь уже в России, обвинения его в антисемитизме, он стал писать статью «Россияне», которая так и осталась черновиком:
«Не было омерзительнее и паскуднее времени в литературной жизни, чем время, в которое мы живём.
Тяжёлое за эти годы состояние государства в международной схватке за свою независимость случайными обстоятельствами выдвинуло на арену литературы революционных фельдфебелей, которые имеют заслуги перед пролетариатом, но ничуть не перед искусством.
Выработав себе точку зрения общего фронта, где всякий туман может казаться для близоруких глаз за опасное войско, эти типы развили и укрепили в литературе пришибеевские нравы….
Уже давно стало явным фактом, как бы ни хвалил и ни рекомендовал Троцкий разных Безыменских, что пролетарскому искусству грош цена…. Бездарнейшая группа мелких интриганов и репортёрских карьеристов выдвинула журнал, который называется «На посту»…».
Сначала эти «большие надежды» заставили его писать Айседоре о своей занятости, а потом и совсем отказаться от неё, когда после очередного скандала пришлось дать подписку о невыезде, тем более что никого и ничего для Есенина не было важнее его самого, его родных и его творчества так, как написал в письме ему А.Ветлугин: «…Ты ушёл в Москву (творчество)… Мне моё имя – строка из паспорта, тебе – надпись на монументах… О тебе вспоминать буду всегда хорошо, с искренним сожалением, что меряешь на столетия и проходишь мимо дней».
Она ждала его в Кисловодске, Пятигорске, Баку, Тбилиси, Батуми, Ялте, отсылала телеграммы со словами: «Я люблю тебя», «С любовью навсегда».
В августе он писал ей: «…Часто вспоминаю о тебе со всей моей благодарностью к тебе…»; в сентябре:
«Milaia Isadora!
Ya ne mog priehat
Potomuchto
Ochen saniat.
Priedu v Ialtu.
Liubliu tebia
Beskonechno tvoi
Sergei.
Irme privet.
Isadora!!!»;
в октябре исправил свои слова: «Люблю тебя, но жить с тобой не буду» - на чужие: «Я люблю другую женат и счастлив».
Айседора приезжала в Москву, продолжала свои гастроли в Ташкенте, Екатеринбурге, Самаре, Оренбурге, Вятке, - но так же, как в Америке запрещали «Интернационал», в России её могли арестовать за исполнение «Славянского марша». Всегда ведь, всегда ведь, на Западе и на Востоке, в Америке и в России, во всём мире всегда и везде обязательно найдётся «сволич», (как назвала Айседора одного из них в Кисловодске, запрещавшего ей танцевать под музыку Чайковского), которая увидит в «Марсельезе» - только гимн революционной Франции, в «Интернационале» - только гимн революционной России, в «Славянском марше» - только «Боже, царя храни». 16 июня 1926 года Айседора Дункан писала в Париже в редакцию газеты L`eclair: «Во время войны я танцевала «Марсельезу», потому что считала, что эта дорога ведёт к свободе. Теперь я танцую «Интернационал», потому что чувствую, что это гимн будущего человечества».Айседора Дункан выехала из России во Францию в сентябре 1924 года. Получив весть о смерти Есенина, отказалась от наследства в пользу его родных, хотя очень нуждалась. «Смерть Сергея ужасно потрясла меня, и я плакала и рыдала о нём столько часов, что он, кажется, истощил у меня всякую человеческую способность страдать. Сама я переживаю период таких нескончаемых бед, что часто испытываю соблазн последовать его примеру, только я войду в море», - признавалась она позднее.
Америка тянулась за ним, как шлейф платья Айседоры, всю его последующую жизнь:
и когда, вернувшись в Москву, он задумал цикл стихов «Любовь хулигана», посвящённый Августе Миклашевской, а по сути Айседоре написанный, «повернув глаза зрачками в душу» (см. об этом «Айседора» - ), той же осенью, что и эти слова: «Сегодня я вытащил из гардероба моё весеннее пальто. Залез в карман и нашёл там женские перчатки…
Некоторые гадают по рукам, а я гадаю по перчаткам. Я всматриваюсь в линии сердца и говорю: теперь она любит другого.
Это ничего, любезные читатели, мне 27 лет – завтра или послезавтра мне будет 28. Я хочу сказать, что ей было около 45 лет.
Я хочу сказать, что за белые пряди, спадающие с ея лба, я не взял бы золота волос самой красивейшей девушки.
Фамилия моя древнерусская – Есенин. Если перевести ее на сегодняшний портовый язык и выискивать корень, то это будет – осень.
Осень! Осень! Я кровью люблю это слово. Это слово моё имя и моя любовь. Я люблю её, ту, чьи перчатки сейчас держу в руках, - вся осень»;
и когда на Кавказе, где его обучали «товарищеской работой совместно с коммунистами», под названиями книг «Страна советская» и «Русь советская» он написал самые антисоветские стихи, а в черновике залитого чернилами одного из стихотворений оставил своим «учителям» наболевшее:
«Может быть, приду я, как шарманщик,
опять сюда в последний, может, раз
и запою опять, как это было раньше,
о том, что навсегда неведомо для вас»;
и в Ленинграде, где он нашёл свой последний приют, закольцованный тем же пятым номером «Англетера», в котором он останавливался с Айседорой, так и оставшийся Есениным-Дункан по брачным договорам в Москве и в Германии, которые не были расторгнуты.
И «бронзовый ангел, стоящий на крыше Исаакиевского собора,… глядит в окно той комнаты», из которой не суждено было выйти ему одному 28 декабря 1925-го так же легко, как 10 февраля 1922-го он вышел с Айседорой – его Америкой.
Они оба ушли из этого мира с петлёй на шее: он с ремнём от чемодана, с которым они отправились в своё свадебное путешествие; её задушил шарф, попавший в колесо её автомобиля. И на её могилу легли пламенеющие любовью алые розы: «От сердца России, которая скорбит об Айседоре».
«Россия, Россия, только Россия… Мои три года в России со всеми её страданиями стоили всех остальных лет моей жизни, вместе взятых… Нет ничего невозможного в этой великой фантастической стране…», - говорила она о самом счастливом и значительном времени своей жизни. - «Наш брак был не только браком любви, но и таким браком, который объединял Россию и Соединённые Штаты».
«Россия смотрит в будущее, Америка единственная другая страна в мире, взгляд которой устремлён в будущее. Вот почему Америка должна понять Россию», - с этими устремлениями Айседора Дункан и Сергей Есенин переплывали океан по пути к факелу воплощения их надежд в руке американской статуи Свободы.
«Пусть не сладились, пусть не сбылись
Эти помыслы розовых дней.
Но коль черти в душе гнездились,
Значит, ангелы жили в ней».
«День, когда Россия и Америка поймут друг друга, ознаменует рассвет новой эпохи для человечества»… «We believe the soul of Russia and the soil of America are about to understand each other». Айседора Дункан и Сергей Есенин - «самый русский поэт» и американская танцовщица, во всём мире признанная «королевой жестов», явившие собой символ России и символ Америки, - приближали рассвет будущего человечества и этими словами Айседоры, и своей любовью, своей жизнью и смертью, своим искусством.
Галина Иванова.
Литература
- Есенин С.А.. Собрание сочинений. В 6-ти томах. М.: Худож. лит, 1978-1980.- Есенин С.А. Полное собрание сочинений. В 7-ми томах. М.: ИМЛИ РАН, Наука-Голос, 1995-2005.
- Русское зарубежье о Есенине: В 2 т. М.: Инкон, 1993.- Сергей Есенин в стихах и жизни. Письма и документы. М.: Республика, 1995.
- Айседора Дункан и Сергей Есенин: их жизнь, творчество, судьба. М.: Терра, 2005.
- Сергей и Айседора / Н. Голикова. – М.: ВАГРИУС, 2005.
- Дункан, Айседора. Моя жизнь. Моя Россия. Мой Есенин: Воспоминания / Айседора Дункан. Нерассказанная история / М.Дести. – М.: Политиздат, 1992.
- А.Дункан. Моя исповедь. М.: Книжный дом, 1990.
- Дункан А. Моя исповедь. Любовь и смерть Сергея Есенина. – М.: 1992.
- Есенина (Наседкина) Н.Сергей Есенин и Айседора Дункан // Журналист. – 2000. - № 3. – с. 68.
- McWay Gordon. Izadora & Esenin. Ardis.1981.
- МакВей Г.Прощание с Америкой // Огонёк. – 1995. – 40. – с. 64-68.
- Г.Иванова. Айседора //Вечерняя Рязань. - 1997; Современное есениноведение. – 2008. - №8, №6; .
Указатель имён
- Анненков Юрий Павлович (1889-1974) – художник. В 1924 году эмигрировал в Париж.- Брагинский Мани Лейб (наст. фам., псевд. Мани-Лейб) (1883-1953) – поэт, переводчик.
- Бурлюк Давид Давидович (1882-1967) – поэт, художник. С 1920 года жил в Японии, с 1922 – в США.
- Ветлугин А. (псевд., наст. фам. и имя Рындзюн Владимир Ильич) (1897-после 1946 или1950) журналист, прозаик, сопровождал Есенина и Дункан в поездке по США как переводчик и секретарь. Остался в Америке..
- Воронский Александр Константинович (1884-1937), критик, публицист.
- Гуль Роман Борисович (1896-1986) - прозаик, критик, мемуарист. В 1914 году поступил на юридический факультет Московского университета. Участвовал в первой мировой войне, в Ледяном походе генерала Л.Г. Корнилова, сражался в рядах белой армии на Украине. В 1919-1933 гг. жил в Германии, затем во Франции, с 1950 года – в Америке.
Один из редакторов «Нового журнала», издал 15 книг, патриарх русской литературы зарубежья, последний крупный писатель и редактор первой эмиграции.
- Завалишин Вячеслав Клавдиевич (наст. фам., псевд. Казанский В., др. псевд. В.Озеров) (1915) – критик, литературовед, сценарист, поэт, переводчик. Окончил Ленинградский университет. После войны остался на Западе. Живёт в США.
- Кусиков (псевд., наст фам. Кусикян) Александр Борисович (1896-1977) – поэт. В начале 1922 года при содействии Луначарского выехал в Ревель, оттуда в Берлин по командировке Наркомпроса. С 1925 года жил в Париже, в последние годы жизни – в Америке.
- Левин Вениамин Михайлович (наст. имя, псевд. В. Мечтатель, В. Менделеев, В. Печерский) (1892-1953) – поэт, критик, издатель, редактор. Эмигрировал в Америку.
- Луначарский Анатолий Васильевич (1875-1933), партийный и государственный деятель, критик, литературовед, искусствовед, прозаик, поэт.
- Лундберг Евгений Германович (1887-1965) – писатель, критик. Закончил Высшую школу социальных наук в Париже, учился в Женевском и Иенском университетах. В 1920-1924 гг. жил в Берлине, где организовал издательство «Скифы», берлинский отдел Госиздата и Гостехиздата.
- Мариенгоф Анатолий Борисович (1897-1962) – поэт.
- Махно Нестор Иванович (1889-1934) – анархист, возглавлявший крестьянское движение на южной Украине в 1918-1921 гг. Последние годы жил во Франции, похоронен на одном кладбище с Айседорой Дункан - Пер-Лашез.
- Светлов Николай (псевд., наст. фам. Свиньин) – поэт, критик, переводчик. В 1920-е гг. жил в Шанхае, после окончания второй мировой войны вернулся на родину.
- Святополк-Мирский Дмитрий Петрович (1890-1939) – поэт, издатель, критик, литературовед. Окончил филологический факультет Петербургского университета, был офицером белой гвардии. В 1920 году эмигрировал на Запад, в 1932 году вернулся из Лондона в Советскую Россию, погиб в Архипелаге «Гулаг».
- Троцкий Лев Давидович (наст. имя Бронштейн Лейб) (1879-1940) – партийный и государственный деятель первых лет революции, в 1922 году выслан из СССР.
- Устинов Георгий Феофанович (1888-1932) – прозаик, журналист.
- Файнберг Лейб (наст. фам., псевд. Гребнев Леонид) (1897-1972) – поэт.
- Ходасевич Владислав Фелицианович (1886-1939) – поэт, критик, переводчик. С 1922 года в эмиграции, с 1925года – в Париже.
- Яблоновский Александр Александрович (наст. фамилия Снадзский) (1870-1934) – журналист, прозаик. Окончил юридический факультет Петербургского университета. В эмиграции жил в Париже и Берлине.
- Ярмолинский Авраам Цаллевич (1890-1975) - С 1918 года работал в библиотеке Конгресса США, затем заведующим славянским отделом Публичной библиотеки в Нью-Йорке.
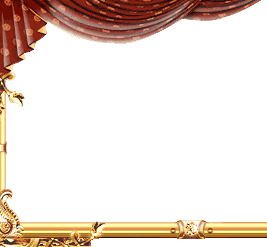

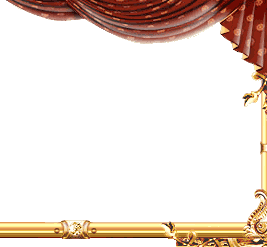






 Galina_Ivanova
Galina_Ivanova

 Утверждено
Утверждено

 О проекте
О проекте




Комментарии
Ветлугин А. (псевд., наст. фам. и имя Рындзюн Владимир Ильич) (1897-после 1946 или1950) журналист, прозаик, сопровождал Есенина и Дункан в поездке по США как переводчик и секретарь. Остался в Америке..
Владимир Ильич Рындзюн (А. Ветлугин) умер в Нью-Йорке 15 мая 1953 года.
Гуль Роман Борисович (1896-1986) - прозаик, критик, мемуарист. В 1914 году поступил на юридический факультет Московского университета. Участвовал в первой мировой войне, в Ледяном походе генерала Л.Г. Корнилова, сражался в рядах белой армии на Украине. В 1919-1933 гг. жил в Германии, затем во Франции, с 1950 года – в Америке.
в Первой мировой войне.
Завалишин Вячеслав Клавдиевич (наст. фам., псевд. Казанский В., др. псевд. В.Озеров) (1915) – критик, литературовед, сценарист, поэт, переводчик. Окончил Ленинградский университет. После войны остался на Западе. Живёт в США.
Завалишин Вячеслав Клавдиевич умер в Нью-Йорке 31 мая 1995 года.
Лундберг Евгений Германович (1887-1965) – писатель, критик. Закончил Высшую школу социальных наук в Париже, учился в Женевском и Иенском университетах. В 1920-1924 гг. жил в Берлине, где организовал издательство «Скифы», берлинский отдел Госиздата и Гостехиздата.
Лундберг Евгений Германович родился в городе Таурогген 31 августа (12 сентября) 1883 года.
Махно Нестор Иванович (1889-1934) – анархист, возглавлявший крестьянское движение на южной Украине в 1918-1921 гг. Последние годы жил во Франции, похоронен на одном кладбище с Айседорой Дункан - Пер-Лашез.
Махно Нестор Иванович родился в Гуляйполе 26 октября (7 ноября) 1888 года. 28 июля 1934 года тело Н. Махно было кремировано, после чего урна с прахом была замурована в стене колумбария кладбища Пер-Лашез. Прах Айседоры Дункан также находится в колумбарии кладбища Пер-Лашез.
Светлов Николай (псевд., наст. фам. Свиньин) – поэт, критик, переводчик. В 1920-е гг. жил в Шанхае, после окончания второй мировой войны вернулся на родину.
после окончания Второй мировой войны.
Троцкий Лев Давидович (наст. имя Бронштейн Лейб) (1879-1940) – партийный и государственный деятель первых лет революции, в 1922 году выслан из СССР.
Троцкий Лев Давидович был выслан из СССР в 1929 году.
яин: Блестящая работа. Спасибо!