За други своя
Отцы и дети
Там счастье, где любовь:оно вас ожидает.
В. Л. Пушкин
Услышав стук уличной калитки, Ольга глянула в окошко. И её лицо озарила улыбка. Супруг! Но отчего со службы пришёл так рано?Поспешила в прихожую.
И не узнала своего Николеньку… Обычно бодрый и жизнерадостный, сейчас он выглядел потерянно и жалко: опущенная голова, обвисшие плечи, удручённый взгляд. Едва сдерживая слезы, выдавил дрожащими губами:
– Горе нам, Оленька, горе… Из Рязани пришла срочная телеграмма: скончался Стёпа…
Чутким любящим сердцем Ольга почувствовала: все приличествующие в этом случае слова сейчас бессильны. Разве могут они умерить неизбывную боль такого горя?
И она приникла к груди мужа, обвала его шею тёплыми нежными руками. И так они стояли, молча, сопереживая постигшую их тяжкую утрату и осознавая роковую неизбежность случившегося…
Потом Ольга, стремясь хоть как-то облегчить душевные страдания мужа, попросила его позаниматься с детьми, сама же стажа собирать его в дорогу.
…Почивший в Рязани Степан Константинович Гобято был старшим сыном мелкого чиновника, оставившего после себя девятерых детей. И тогда он взял на себя всю заботу о содержании и воспитания младших братьев и сестер. Человек долга, внимательный и добросердечный родич, Степан Константинович ценой больших усилий и материальных затрат сумел всех их благополучно вырастить и вывести в люди.Николаю, например, он помог закончить юридический факультет Петербургского университета и в 1868 году неплохо устроиться в Таганроге, находившемся на территории Войска Донского.
Основанный царём Петром, казачий город Таганрог был одним из самих оживлённых морских портов на юге России, через который шла бойкая заграничная торговля, особенно хлебом. Ведь область Войска Донского без особого преувеличения тогда являлась главной житницей страны.
В 1829 году, например, 75% всей реализованной на внутреннем российском рынке и 77% проданной за границу пшеницы принадлежало казачьим хозяйствам. С 1822 по 1867 год ежегодный валовой сбор зерновых культур – за счёт повышения урожайности и распашки целинных земель – в области вырос в четыре раза.
Одновременно Таганрог являлся и крупным по тому времени промышленным центром, насчитывавшим десятки предприятий. Особенно было развито мукомольное, макаронное и табачное производство. Богаты и прибыльны были и его ярмарки, на которых продавалось большое количество хлеба, лошадей и крупного рогатого скота, выращенных довитыми и умелыми хозяевами своей благодатной земли – донскими казаками.
Словом, промышленно-портовый Таганрог нисколько не напоминал смаковавшийся либеральной прессой образ сонного провинциального городишка – с его от мира глухими заборами отгороженными домами и свиньями, роющимися в уличных отбросах; наоборот, жизнь в нём что называется била ключом.
Банальная истина: любая экономическая деятельность требует соответствующего юридического сопровождения – брат Степан знал, куда пристроить Николая. Тем более, что после его приезда в Таганроге учредили окружной суд, в который вошли Бердянский, Екатериноградский, Керченско-Таврический и Ростовский суды. Одновременно была организована самоуправляющаяся корпорация присяжных поверенных, надзор за деятельностью которой осуществлял совет присяжных поверенных при Одесской судебной палате. Его членом от таганрогской корпорации стал классный чиновник Николай Константинович Гобято. В этом качестве он проработал около десяти лет.
Многонациональный город-порт Таганрог ему пришёлся по душе. В нем насчитывалось полтора десятка православных храмов, католическая церковь, синагога. Имелись две гимназии – мужская и женская, четырёхклассное городское училище, шесть пансионов, две еврейские школы. В 1858 году в Таганроге открылась частная библиотека – одна из первых в России. Позже на средства местной интеллигенции и просвещённых предпринимателей была создана городская публичная библиотека. Её фонд составили подаренные ими книги, а также купленные на деньги дарителей. Среди них – и рядовые горожане, и знаменитые люди. Например, пи¬сатель Антон Павлович Чехов передал ей около 2000 книг из собствен¬ной библиотеки.
Весомый вклад в создание таганрогской публички сделал и Николай Константинович Гобято. В календаре издателей Фотиева и Рагозина указано, что он передал ей «два шкафа с книгами и 1080 рублей денег» – сумму по тем времена весьма внушительную.Как все истинные интеллигенты, Николай Константинович с величай-шей ответственностью относился к своему делу. Добропорядочность, высокий профессионализм, меткий и образный язык – эти и многие другие положительные качества снискали молодому адвокату широкую популярность и уважение – не только среди сослуживцев, но и всех знающих его людей.
И потому Н.К. Гобято не испытывал недостатка в клиентах, в том числе весьма состоятельных, что, естественно, обеспечивало ему приличные гонорары. Однако, оберегая свою профессиональную и житейскую репутацию, он никогда не брался за сомнительные дела, какие бы материальные выгоды они ни сулили. В то же время он не отказывал, в помощи малоимущим и бедным людям, когда видел проявленную в отношении них явную несправедливость
Напряжённая работа, семейные заботы и хлопоты отнимали у Николая Константиновича много времени. Но говорится же: делу время – и потехе час. Отдыхать же он любил на природе, благо окрестности южного приморского города этому способствовали. Гобято слыл метким стрелком и удачливым охотником, а многочисленные, густо заросшие осокой и тростником протоки, впадавших в Таганрогский залив рек – Дона, Миуса, Кальмиуса, Еи, – кишели пернатой дичью; поэтому он никогда не возвра-щался домой с пустым ягдташем. Не обходились без его участия и кол-лективные рыбалки сослуживцев, увенчивавшиеся, по сравнению с нынешними временами, поистине фантастическими уловами. Ведь Азовское море принадлежало тогда к числу самых «урожайных» водоемов не только России, но и мира, превышая, например, рядом лежащее Чёрное море в 3-4 раза. Об изобилии же овощей и фруктов в Приазовье и говорить не приходится.
Словом, служба и быт у молодого юриста Николая Константиновича Гобято сложилась чрезвычайно удачно. Как говорится, жить бы да жить…
И вот страшный и неотразимый удар судьбы – умер брат Степан, мудрый наставник, добрый и заботливый человек. Бунтовала раненая душа, не желая примиряться с тем, что он ушёл из жизни, но холодный разум в такт вагонным колесам, мчавшегося на север пассажирского экспресса твердил: так есть, так есть…
После похорон Николай Константинович навестил проживавшую в Москве Александру Николаевну Пущину, тётушку и крёстную мать своей супруги Ольги. Это она и её добросердечный муж Иван Фёдорович Пущин приветили и ободрили молодую чету Гобято в самом начале их совместной жизни. И хотя с той поры минуло немало лет, события того счастливейшего и одновременно труднейшего помнились хорошо……Однажды сокурсник Юлий Сипягин – отпрыск богатого аристократического рода – в знак благодарности за постоянную и бескорыстную помощь в учёбе пригласил Николая на званый семейный бал:
– Соберутся не только все Сипягины – будет много приглашённых. Ангажирована холостая молодежь – гвардейские офицеры, юнкера Пажеского корпуса, чиновники не ниже десятого класса. Придут девицы из Смольного и Ксенинского институтов. Повеселимся вволю, отдохнём, друг Николя΄, от наскучивших лекций и зануд-профессоров!
Понимая, что на великосветском балу, среди золотой молодёжи, будет выглядеть белой вороной, Николай под благовидным предлогом стал отказываться. Но Юлий не отставал. Его не задел отказ однокурсника; знает своё место! Но он хотел, чтоб даровой репетитор был обязан ему такой милостью:– Я уже вписал твоё имя в список приглашённых. Отец не возражал. И тебе отведено персональное место в банкетном зале. А от приглаше¬ния к Сипягиньш не принято отказываться!
И Николай уступил.
Впоследствии он со страхом думал, как бы сложилась его судьба, если б, настояв на своём, не пошёл на тот бал…Тогда он был представлен Юлием своим родителям – знатной дворянке Наталье Николаев¬не и Всеволоду Мартемьяновичу – придворному генералу. Осанкой и манерами Николай удовлетворил их придирчивые вкусы – и тем заслужил пару обязательных фраз и дежурные улыбки. Но едва отошёл – хозяева тут же о нём забыли.
Зато их юную дочь Ольгу – воспитанницу Смольного института благородных девиц скромный студент Николай Гобято пленил сразу и до самой глубины души. Он тоже влюбился в неё с первого взгляда.
И вскоре молодые люди поклялись друг другу в вечной любви и верности до гроба. Их горячее взаимное чувство не остудила суровая проза жизни: ведь надежды пойти под венец обычным путём у них не было. Оба прекрасно понимали, что Сипягины даже намёк на мезальянс4 встретят в штыки.
И тогда внешне мягкая и покладистая, но душевно сильная Ольга решилась обвенчаться тайно, надеясь на то, что, поначалу рассердившись, родители потом сменят гнев на милость и простят молодоженов за самоуправство.Получилось однако совсем по-другому. В минуту откровенности Николай поделился своей радостью с Юлием, полагая, что университетский това¬рищ поймёт и поддержит душевный порыв своей сестры. Однако тот сразу же помчался к отцу с доносом.
Разразился страшный домашний скандал. Словно гнилая шелуха, слетели с царедворца Сипягина напускная воспитанность и показная демокра¬тичность, вошедшая в моду при императоре Александре II. Топая ногами и брызгая слюной, генерал орал на дочь, как неотесанный унтер в сол¬датской казарме. Потом, устав от собственного крика, принялся вразум-лять её:– Выкинь из головы и забудь этого голодранца! Ему подстать наша кухарка! А ты – великосветская барышня, и жених должен быть достойным тебя, нашего рода и положения. И таковой тебе уже присмотрен: из богатой высокочиновной семьи.
Самому государю императору известен! При таком муже тебе ни в чем отказа не будет, на золоте есть-пить и в золоте купаться станешь. Ещё молод, а при дворе он уже фигура – не то, что твой студент-голодранец из сиволапых малороссийских казаков…Добиваясь своего, Всеволод Мартемьянович натравил на дочь других родственников, включая «тяжёлую артиллерию» – брата Николая Мартемьяновича Сипягина, министра внутренних дел, генерал-адъютанта. Они не сомневались, что неопытная семнадцатилетняя девушка, не выдержит столь массированного давления и пойдёт на попятную.
Однако они недооценили стойкий характер и силу её чистого и искреннего чувства. На все увещевания «доброхотов», перемежавшиеся с угрозами, Ольга твердила одно:– Я люблю Николеньку – и выйду замуж только за него одного!
Между тем по великосветскому Петербургу попозли слухи, будто В.М. Сипягин тиранит юную дочь-красавицу, держит её под замком на хлебе и воде, принуждая, как в тёмные допетровские времена, к замужеству с неведомым ей человеком. А мнением записных «законодателей» великосветских салонов столицы сей придворный генерал дорожил куда больше, чем личным счастьем своей дочери. Он панически боялся, что порочащие его слухи дойдут до императора и оборвут так удачно сложившуюся карьеру. И Всеволод Мартемьянович вынужден был – со скрежетом зубовным! – уступить упрямице.
Но, будучи чёрствым, не восприимчивым, к чувствам и душевным порывам человеком, В.М. Сипягин зло отомстил дочери за, как ему казалось, унижение его в глазах великосветской публики: он лишил её наследства, материальной и любой другой отцовской поддержки.
А Ольга ликовала: исчезло главное препятствие на пути к законному браку с её избранником – горячо любимым и бесконечно дорогим Николенъкой. После венчания в сентябре 1868 года молодожёны выехали в Таганрог: деньги на проезд тайком от В.М. Сипягина дала тетушка Ольги – директриса института благородных девиц.
В Москве сделали остановку и несколько дней гостили у дружной Супружеской четы Пущиных – Александры Николаевны и Ивана Фёдоровича. Александра Николаевна приходилась родной сестрой тёщи Николая и крёстной Ольги. Детей они не имели, по нездоровью свой дом покидали редко – и, не скрывая, радовались приезду молодёжи. Оба с неодобрением отнеслись к поведению В.М. Сипягина, но, щадя дочернее чувство племянницы, разговоров на эту неприятную тему избегали.
Вскоре к ним приехал из Рязани Степан Константинович Гобято – и в доме Пущиных стало ещё оживленнее. Истинно московское радушие хозяев и непоказное внимание к гостям сделали пребывание семейства Гобято приятным. Вместе посетили Третьяковскую галерею, сходили в Петровский театр на оперу А.С. Даргомыжского «Русалка», побывали на Красной площади, осмотрели достопримечательности Кремля. Истинную петербуржку Ольгу Москва покорила своим неповторимым обликом, самобытной культурой и своим стилем жизни. «Тут русский дух… Тут Русью пахнет!» – такими (несколько перефразированными) пушкинскими словами она выразила свой восторг древней столицей.
В избытке снабдив всем необходимым в дороге, а также изрядной суммой денег на обзаведение, Пущины и С.К. Гобято посадили молодожёнов в поезд. Прощание было тёплым и светлым, но всё же грустноватым: ведь расставались любящие и уважающие друг друга милые люди…
И вот Николай Гобято снова в московском доме Пущиных. И, как прежде, был встречен желанным гостем. Только эта встреча была замешена на грусти, вместе погоревали о Степане Константиновиче, самыми уважительными и добрыми словами помянули тремя годами ранее умершего Ивана Фёдоровича…
А потом разговор плавно перетёк к делам текущим. Николай обстоятельно и подробно рассказал о своей житье-бытье в Таганроге, о делах Ольги, с большим успехом занимавшейся воспитанием их пятерых детей. Несомненно, сказывалось её прилежное обучение в Смольном, в котором преподавали выдающиеся учёные и педагоги, например, знаменитый Н.Д. Ушинский. Порадовались за первенца Сашеньку, в прошлом году зачисленную в институт благородных девиц.
В столицу её привозила Ольга. Всеволод Мартемьянович ни дочь, ни внучку видеть не пожелал, но – и то хорошо! – против устройства девочки в Смольный возражать не стал.– Бедный человек… вздохнула сердобольная Александра Николаевна. – Невдамёк гордецу, что в преклонных летах (они для него не за горами!) лучшая отрада в жизни – не звёзды и царские вензеля на генеральском мундире, а сопливые мордашки внучат, елозящих на дедовских коленях. Мальчики-то ваши как?
– Растут ребятишки, – с особой теплотой и нежностью ответил Николай. – Старшие Николай, Степан и Борис ходят в гимназию. Учатся хорошо. Глядя на них, младшенький Леонид тоже тянется к карандашам и бумаге. Братья спои тетради и книги прячут, иначе живо разукрасит их сво-ими каракулями.
– Не успеешь оглянуться – и их устраивать надо будет!
– Да уж так…
Помявшись, Николай с некоторым смущением продолжил:– Боюсь, с этим придётся трудновато. Средства потребуются немалые, а достаточно накопить вряд ли удастся: заработок мой становится всё меньше…
– Что так? – насторожилась Александра Николаевна.
Из его рассказа она узнала, что некогда богатый и цветущий город-порт Таганрог начал быстро хиреть. Большие торговые суда в его мелководную гавань заходить не могли, к тому же Таганрогский залив зимой, нередко покрываясь торосистым льдом, становился непроходимым для любых плавучих средств. Поэтому экспортно-импортные грузопотоки стали направляться в другие, преимущественно черноморские порты, особенно Одессу. Упадок товарооборота, естественно, привёл к снижению промышленного производства, значительно ухудшил ситуацию в банковской сфере. В та¬ганрогском суде все чаще начали появляться «подмоченные» дела. Блюсти закон, честно и неподкупно работать Николаю Константиновичу и его становились коллегам было всё труднее, а их гонорары становились все меньше…
– Оленьке-то, чтобы её не нервировать, внушаю, что возникшие неурядицы – дело временное, что скоро всё наладится. Сам же вижу – дальше только хуже будет. Как ни крути, а пора подыскивать другое место жительства и службы. Но где и как его искать, ума не приложу, – посетовал со вздохом Николай.
Александра Николаевна внимательно и сочувственно выслушала откровенное признание симпатичного мужа любимой племянницы, понимала и разделяла его горячую обеспокоенность будущностью своих малолетних отпрысков, но видела также, что он всё же несколько сгущает краски: сказывается похоронное настроение… А чтобы побыстрее унять таковое, надо ему поручить некое дело, которое захватит его целиком, не оставляя времени на бесплодные сожаления о безоблачных днях прошедших и самоедских дум о грядущих трудностях и возможных неурядицах… Уж что-что, а она, Александра Николаевна Пущина, владелица нескольких обширных поместий в Центральной России, поможет вырастить, воспитать и вывести в люди детей Ольги и Николая Гобято, да так, чтобы не ущемлять их самолюбия. Это намерение обсуждалось еще с супругом Иваном Федоровичем – и тот теперь, кажется, приспело время приступить к его исполнению.
Спросила:– Надолго ли у меня задержишься, Николай Константинович?
– Оленька наказала: быть столько, сколько понадобится, чтобы управиться со всеми делами, в которых вам нужна моя помощь.
– Ну и ладненько! Думаю, моя крестница тебе уже нимало порассказала о старинном дворянском роде Пущиных. Он многочислен: только в Рязанской губернии три колена. Раньше их вотчины и поместья занимали чуть ли ни целые волости. Но роды, как водится, со временем ветвились, а их владения дробились. Освобождение же крестьян явилось для них сильнейшим ударом. Многие не выстояли и пошли с молотка. Боюсь, что и мои ожидает та же участь. Пока был жив Иван Фёдорович, мы как-то держались, а сейчас… – Александра Николаевна сокрушенно повела немощными старческими руками. – Разве я одна смогу управиться с ними? Поэтому, Николай Константинович, настоятельно прошу помочь разобраться с положением дел в имениях, чтобы потом взвешенно решить судьбу каждого из них. В Рязанской губернии особое внимание обрати на усадьбу в селе Морозовы Борки, что в Сапожковском уезде. Обнаруженные недочёты по возможности устраняй сразу, для других – установи сроки но их исправлению. Разберись со старостой хорошенько: ещё тот гусь! Коли вин и нерадения за ним много, собери сельский сход – пусть люди сами назовут достойного. Словом, веди себя там, Николай Константинович, как хозяин!
– Признаться, последнего не понял… – удивился Гобято.
– А тут особо и понимать нечего. Если имение в Морозовых Борках найдёшь потенциально доходным, а тамошние места придутся крестнице по душе, Берите его и хозяйничайте. Да так, чтоб не только на жизнь, но и на то, чтоб свою детвору на ноги поставить. Поди, крестница опять в интересном положении находится, а? – улыбнулась Александра Николаевна.
И придвинула к Николаю внушительный пакет бумаг:– Ознакомься! Здесь все необходимые документы по нашему имению в Морозовых Борках, а также доверенность на твоё имя на право управления таковым.
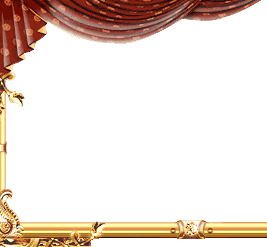
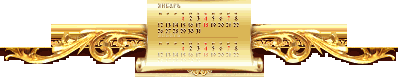
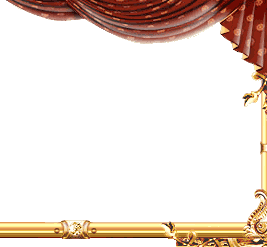





 admin
admin


 Утверждено
Утверждено

 О проекте
О проекте



