«Сейчас», вопреки моему скепсису, принял репортаж, и хоть с купюрами и правками, но опубликовал. В день публикации я уволилась из «Периферии». Между двумя работами выпадал люфт, дней пять.
Сидя дома, я с нервным оживлением ожидала эффекта, который должен был бы произвести на Павла Грибова сюрприз. Сама любовнику газету под нос совать не хотела, положилась на судьбу. Вдруг он изменит свое мнение о журналистике?..
Дождалась.
Прозвенел звонок у лестничной двери. Открыв, я зафиксировала взглядом два достойных объекта: каменное лицо Павла Грибова и свернутый в жгут «Сейчас» у него под мышкой. Избежав ритуальных поцелуйчиков-обжиманий на пороге, Павел мощной грудной клеткой потеснил меня, и в комнату мы втянулись задом.
Ни единого вопроса задать не довелось. Даже выдохнуть я не успела.- Сука драная, - припечатал Павел, кидая на стол скрученную газету.
Глаза его были свинцовы. Их взгляд давил. Я заметалась, ища помощи, попятилась к окошку, оперлась спиной на подоконник…
- Мразь, - продолжил Павел.
В груди поселилась небольшая черная дыра, куда беззвучно улетело все живое.
- Как ты могла такое натворить?!
Он взял со стола газету и подирижировал ею под лампочкой, давая понять – дело в полосе номер восемнадцать.
Много оскорблений выпадало мне от Павла, но таких я пока еще не удостаивалась. И никогда в жизни меня никто не ругал столь площадно, не объясняя вины. А из меня черная дыра высосала гладкую продуманную речь в свою защиту: в увековечение памяти Всеволода я вложила свою лепту, и смею надеяться, что это не самый плохой вклад, потому что я рисую его человеком, а не только поэтом, и даже постигаю его душу, потому что мне она раскрылась…
- Тем, как ты обошлась с памятью моего друга, ты лишний раз доказала – я для тебя говно! – бросал камнями в грешницу Павел Грибов. – Я очень жалею, что расслабился, сделал себя перед тобой уязвимым! Я ведь чувствовал, насколько ты опасна в ненависти! Но думал, идиот, что человеческого в тебе все же больше!.. А ты!.. Ты много раз ты мне демонстрировала… Особенно после того, как я рассказал тебе про ми… свою девушку… что отношение изменилось! Ты стала меня ненавидеть, при каждом удобном случае кусать! Пока это касалось только меня, я терпел! Но последний случай переходит все границы! Потому что речь идет о Поэте! Который одним своим поэтическим словом сделал для этого мира больше, чем ты со всеми своими типографскими подтирками! Ты не стоишь мизинца Севки! И ты… ты, дрянь… ты его позоришь, низводишь на уровень обывателя… гнусного совкового пролетария… быдла…
- Но ведь это правда…
- Ты продолжаешь упорствовать?! В своей тупости и подлости?! Ты хоть понимаешь, что и меня ставишь под удар… Ведь если кто поймет, что с моей подачи ты занялась этой темой… И так ее извратила… Ты же с навозом меня смешала! Больше ощущать себя говном я не намерен. Между нами все кончено! Ты мне не нужна ни в каком качестве! Я тебя видеть не желаю!
Он швырнул злосчастную газету на пол, махнул рукой и пошел вон. Бежать за ним, чтобы возразить, я не снизошла бы и под нацеленным автоматом.
Две двери пушечно грохнули на пути Павла Грибова. Сам защелкнулся «дневной» английский замок на внешних вратах.
- Инна! – воскликнула из соседней комнаты Софья Кирилловна. – Попроси своего визитера, чтобы в следующий раз он хлопал дверями потише! У меня прямо давление повысилось от такого грохота! И косяки у нас слабые, это тоже надо учесть…
- Простите, Софья Кирилловна, следующий раз такого не повторится, - размеренно доложил бабке некий механизм из моего горла.
Больше я его тоже не видела в мире живых. Никогда.
Но мы с ним разговаривали.
Не пугайтесь – я не помешалась от горя. Просто тесная эмоциональная связь наша с Грибовым (а насколько она была тесной, я осознала, лишь когда он жахнул дверью!) не могла уйти сразу в никуда. Между нами продолжался виртуальный контакт. Я по сто пятьдесят восемь раз на дню вспоминала Пашку, цитировала его, мысленно огрызалась ему в ответ, спорила с ним, а то и соглашалась, и порой даже ловила себя на том, что прихорашиваюсь, как будто он меня видит откуда-то издалека. Уверена, что все, пережившие потерю, меня понимают.
Безусловно, то же самое переживал и Павел Грибов.
После разрыва с любовником я прекратила появляться в «Перадоре». Как и на прочих литературных нивах, где паслись упитанные тельцы и важно бродили пастыри от высокого искусства. Хотя меня туда еще почти год пытался заманить добрый честный примитивист Василий Сохатый.
Он мне звонил раз в три, четыре дня, как на работу выходил (был охранником какого-то магазина сутки через трое). Звал прогуляться, приглашал «посидеть», анонсировал творческие вечера. Он явно ухаживал, метя на то «свято место», которое внезапно оказалось пустым. Но был мне неприятен после идиотского выкрутаса Пашки. И я не церемонилась с Василием, подбирая слова для отказов.
Один лишь раз он порадовал меня – когда, через недели две после исхода Пашки, впервые позвонил мне домой поздно вечером. Примитивист нашел выпуск «Сейчас» со статьей «Он так долго звал смерть, что та к нему пришла» и рассекретил автора.- Ин, классно написано! Интересную ты версию выдвигаешь! И вообще интересно читается! Легко так! И ничего в ней оскорбительного нет для Севки. Я его же помню – он всегда, как не от мира сего… Будто кого-то все время слушал, помимо нас… Так что ты молоток, никому не верь!
«Слышишь – твои же друзья призывают тебе не верить!» - сказала я астральному телу Пашки, кое явственно колыхало воздух над левым моим плечом. Это не было галлюцинацией! – на загривок мой недобро подуло, аж мурашки побежали – Пашка, отделенный от меня гигантской городской каменоломней, взъярился.
Сохатый, поразительно упорный в своем чувстве, стал для меня «буревестником», изредка приносившим, помимо откровенного мусора, важные новости - например, черную молву о кончине «Перадора». Оттуда вынесли книжные стеллажи и аудиоаппаратуру так стремительно после расставания моего с Павлом – какие-то полгода промелькнули, как перелистанные компьютерные страницы! - словно мой негатив разрушил ни шатко ни валко движущийся бизнес. Шутка - скорее всего, просто экономические законы взыграли, и литературное кафе приказало долго жить. Управленческая команда сменилась, новый хозяин перепрофилировал рыцарский замок в шалман для бизнес-класса – со стриптизом и игорным залом.
Рогатый примитивист позвонил мне после одной майской полуночи, задыхаясь, как после марш-броска на пять километров, и жалобно твердил: «Суки! Су-уки! Ну, б…, какие же су-у-у-уки!». Применив все свое искусство беседы, с трудом, в час по чайной ложке, я выжала из поэта факты, помимо комментариев.
Вася Сохатый хотел, по традиции, завершить удачный для него день в любимом кафе, и, придя туда, на выходе столкнулся с двумя амбалами грузчицкого вида. Мощные хватательные агрегаты грузчиков играючи ворочали фрагмент стеллажа. Углом полки в красивом кульбите едва не задело зубы примитивиста, открывшего от изумления варежку. Его же и обругали за то, что под ногами путается. А на косноязычный вопрос типа «Что здесь происходит?!», Гераклы слаженно и кратко ответили, что происходит п…ц кафе, приходи через неделю, смотри, как бабы будут на шестах кувыркаться. Сохатый произвел кучу эмоциональных и ненужных звуков, попытался проникнуть вовнутрь и был отброшен второй очередью грузчиков, выносящих на сей раз колонки. Вмиг ставший из примитивиста мазохистом Сохатый назавтра тоже пришел наблюдать за разорением «Перадора» ордами варваров, наткнулся на одного из владельцев, выпускника Литинститута, от которого и узнал, что высокое искусство в который уж раз проиграло коммерческой прозе жизни. Кафе пришлось продать, пока за долги не закрыли, и вот теперь новый владелец оборудует здесь стрип-бар, а он, бывший пайщик, пока поднакопит деньжат на новое предприятие. Например, сочиняя стихотворные подписи к открыткам. По этому поводу Вася напился на дому и известил меня: мы больше никогда не вернемся туда, где были столь счастливы. С последним тезисом я бы поспорила… Но пожалела Ваську.
А вот со второй вестью от Сохатого так просто справиться мне не удалось. Еще бы – она касалась Пашки.
Буду краткой – до сих пор о некоторых фрагментах его биографии мне трудно говорить в подробностях. Да, я ревнива. По сей день неприязненно спрашиваю у того узелка в моей душе, что зовется Пашка Дзюбин: «Ну, и с кем ты теперь, паразит, пьешь чашу жизни?..» А уж к девушке Пашки Грибова, которой он боялся принести триппер от своих менее возвышенных соседок по койке, питаю стойкую антипатию. Необъяснимую. Но ядреную. А то, что поведал мне Сохатый, касалось лишь нее.
Милена – вот как ее звали. Только тут я поняла, отчего житель ноосферы «мимикал», вспоминая о ней. Была она хохлушка, дочь военного, приехала в Москву учиться в Литике из Великого Новгорода, и Пашка ее безумно любил. Потом он встретил меня и безумно любил двух женщин. Потом я предала светлую память Севы Савинского. Пашка вернулся ко мнению о всех журналистах как о продажных тварях, и обрадовался – дилемма якобы решалась сама собой. А еще потом… Грибов загулял с друзьями. Милена, к тому времени осевшая у него в квартире как натуральная жена, в розысках позвонила Ваське Сохатому – а тот был на дежурстве в своем магазине и не квасил с мужиками, спросила, где искать суженого. Сохатый возьми и брякни: «Может, у Инки?..»К чести корешей Грибова и моему посрамлению, они и вправду эту инженю берегли от информации обо мне. Так что Вася попал… Из него вытянули все, вплоть до моего домашнего телефона – да только, сдается мне, я в Березани в ту выходную ночь была. А наутро мой номер стал неактуальным. Хохлушка Милена дождалась Грибова, сказала ему, кто он есть, собрала чемодан и ушла от него.
Она забрала из института документы и свалила к предкам в Великий Новгород. А Пашка… продал свою квартиру и уехал следом. Свататься. А Милена его на порог не пустила. И ее папа, полковник ВДВ, вышел в подъезд – по-мужски потолковать с гением. Разговор вышел таким, что матримониальные поползновения Грибов оставил навсегда (я злоязычна – точно ревную!).
Но он не уехал назад. Купил в Новгороде жилье. Остаток денег стал пропивать. И в одном шалмане, в рабочем квартале, встретил свою мечту – золотозубую буфетчицу. «Прислонился» к ней, воплощая в жизнь представления о ноосфере. В купленной квартире, по слухам, и не появлялся – жил с той телкой, отгонял от нее слободских ухажеров, помогал ей убираться в «торговом зале» после закрытия и читал ей стихи. Месяца через два такой жизни она опоила его водкой из новой партии. Оказался почти стопроцентный этиловый спирт.
Разумеется, не нарочно. Было шумное уголовное дело. Продавщица получила условно, владелец рыгаловки – реально, производителя зелья найти по адресу, указанному в накладных, не удалось. Из отведавших водочки протошнились с горем пополам в больницах человек шестьдесят, а десятеро скончались. Одним был Пашка.Продавщица сообщила Пашкиным родителям, вытащив из его кармана московскую записную книжку. Весть дошла до Москвы и распространилась по литературной тусовке черным облаком. Самые впечатлительные даже пить завязали. А самые близкие – и Васька Сохатый - поехали на похороны.
Щадя меня, он рассказал все это месяцем позже – выдал единый блок информации с непривычной для него серьезностью. Присовокупил, что Милены на погребении и дружеских поминках, кои друзья сымпровизировали в гостинице, сбросив с хвоста искренне рыдавшую златозубку, не было, хотя ее и звали.
Услышав это, я мигом приняла решение. Мне захотелось по смерти Пашки умыть эту чистенькую сучку, сделав то, на что ей не хватило духу. Простить она его, видите ли, не смогла!..
Васька долго и путано объяснял мне, как найти Пашкину могилу на Ново-гражданском кладбище Великого Новгорода. Но я и сама видела, где он лежит и страдала от невозможности прямо сейчас смести с подзолистого бугра оспины ржавых листьев. Прошел год с того момента, как мы впервые сцепились в «Перадоре». И уже не было при мне ни того, ни другого.
Я «пробила» два дня за свой счет и в шесть утра вылезла из московского скорого на новгородский аккуратненький вокзал. Шла к могиле с букетиком лиловых астр, при этом сознавая, что так и не отпустила Пашкину душу на покаяние. А на могиле стоял деревянный крест без фото – откуда у буфетчицы фотосессия Павла Грибова? Но он смотрел на меня, должно быть, из вожделенной своей ноосферы, и я подумала отчаянно, стиснув цветы до появления грязноватого сока: «Ну что, что тебя так манило в ноосферу?! Ради чего ты про…л свою жизнь?! Зачем она тебе так понадобилась, что ты бросил любивших тебя женщин во имя поэзии и инфернальных стремлений?!»Это было дежа вю – почти то же самое я испытывала на пустыре, где погиб Всеволод Савинский. Открылся туннель, только ветер подул не в него, а в обратную сторону, толкнув меня шага на два назад от скромного надгробия. Пашка не хотел меня пускать в свою святая святых. Мне почудилось - он все еще не верил, остолоп, что только я могу его услышать. Но оказалось сложнее: он вышел со мной на контакт, лишь чтобы подтвердить – я не нужна ему. Я, крепче всех с ним связанная, хуже всех его понимаю. «Отойди!» - рявкнул кто-то в ухо. Отошла. Неприглядная листва покрывала холмик над Пашкой, ее было много, много, она шевелилась под ветром, который шел из того туннеля, она крутилась низко-низко над землей, складываясь в каббалистические знаки, затем – в слова, и, напрягшись, я до боли в глазных яблоках вчиталась… Прочитала все.
С рождения и во веки веков Пашка руководствовался словом: «Хочу!»В детсаду. Перед школой. В школе.
- Не хочу в серую школу, хочу в розовую! – заявил Пашка за завтраком. Ему было семь. Благополучную московскую семью - папа инженер, мама учительница, трое детей, двое умных, третий шалопай – естественно, Пашка, - лихорадило от приближения первого сентября. Двое старших без вопросов потащились в соседнюю школу. Пашку отдали туда же, и в первый день занятий первоклашка Пашка Грибов пришел домой в неурочное время. Через полчаса после того, как мама из-за школьной калитки сделала ему ручкой. Сам. Перейдя две дороги, одна из которых называлась Проспект Мира. Мама чуть в обморок не упала.
- Я хочу в розовую школу, а не в эту!
- Какую розовую?
- Не знаю. Она далеко. У бабушки.
Мать была готова к инфаркту. Бабушка по отцу жила в Марьиной Роще. Чтобы Пашку взяли в школу не по прописке, матери пришлось врать, что парень будет жить у бабушки. А потом ей пришло в голову, что это неплохой выход. И Пашка переехал к сумасбродной старухе Альбине Алексеевне, с которой, всем близким на диво, находил общий язык до самого дня ее смерти. Бывшая политзаключенная, освобожденная по амнистии и одаренная правом вернуться в Москву, передала внуку свой непобедимый и вздорный коммунистический характер.
У нее над трюмо висел портрет Сталина, и когда редкие гости с вежливым недоумением косились в ту сторону, старуха заявляла:
- Мне так нравится! Я до смерти останусь гражданкой его страны!
В пятнадцать лет Пашка повесил напротив Иосифа Виссарионовича увеличенное фото Александра Галича и заявил:
- Мне так нравится!
Бабка хмыкнула и отозвалась:
- Говнюк, а сечет! Этот жид много сделал для увековечивания памяти вождя!
В школу, когда Пашка хулиганил не по-детски, до вмешательства директора, РОНО и вызова родителей (то есть три раза в неделю) вместо отца и матери ходила бабка. Клацала алюминиевым костылем на учителей, кричала надорванным голосом. На угрозы исключить Пашку прозорливо реагировала:- Статистику себе портить побоитесь!
А на все остальные претензии неизменно отвечала:
- Если б все ваши примерные ученики были хоть на мизинец бойцами, как мой засранец, мы бы не боялись третьей мировой! Мы бы разбомбили америкосов в их логове!
Выходя из школы, бабка жадно затягивалась «Примой» без фильтра, совала и Пашке сигарету:
- Кури, золотая рота! Лучше при мне кури, чем с уркаганами в подворотне!
Примерно так же она просвещала внука и насчет спиртного:
- За столом – можешь, а за столбом – не смей! Не выживешь! Засосет!
И до самой армии Пашка пил только за столом с бабкой - в день Победы, в день Октябрьской революции, в день рождения Сталина…
Бабка прописала в свою однокомнатную нору одного внука - Пашку. Оставила завещание, что он в день совершеннолетия вступает в права пользования этой жилплощадью. И когда она скончалась – утром Пашка встал, а бабка, перечитывавшая на ночь сочинения Вождя через лупу, свесилась набок из кресла, приоткрыв сухой уже рот в синеватых губах, выпустив из костенеющих пальцев лупу, но мертво стиснув томик Сталина, - он поставил на своем: останусь тут жить. Один. Шестнадцать лет было обалдую, и без бабкиного агрессивного заступничества не светил ему аттестат зрелости. Как и профессия.
- Да что ж это такое?! – кипятился на семейном совете старший Пашкин брат, решивший жениться. – Мне, значит, к жене идти, а ему, сопляку несовершеннолетнему, прохлаждаться в отдельной квартире?!..
- Почему нам ничего нельзя, а ему все можно? – подвывал средний. – Вы говорите, что надо старших уважать! Пашка вас в грош не ставит, вы перед ним пляшете, а мы вас слушаемся, так теперь без квартиры остались. Что – мне отдельно пожить не хочется?..
- Мне нужнее! – кричал старший. – У меня невеста беременная!..
- Дима, Владик, - обреченно сказал отец, - пусть его. Понимаете – у вас все впереди. Вы… вы нормальные люди. С руками, с головой… Вы себе на квартиры, даст Бог, заработаете, а Паша-то никогда…
Спор закончился тем, что мать подошла к сыну и прошептала ему на ухо:
- Пашка, отчего ты нас так не любишь?
Эффект внезапности сработал – Пашка дрогнул и наставил взгляд на мать. Вопрос его задел, хотя он и отмолчался. Пашка знал ответ: добропорядочные предки и правильные старшие братья не были, по его мнению, личностями. Они были пресны, как диетический хлеб. Полезны и унылы. Он не любил «никаких» людей. Он в свои шестнадцать любил одну лишь свою бабку – стриженную под горшок (лагерная привычка!), грубую старуху, забывшую в зоне все навыки стенографирования, и презиравшую работу за кусок хлеба, ибо ей безбедно жилось на пенсию реабилитированной. Бабка, секретарша какого-то кадра из НКВД, угодила в мясорубку следом за ним. Список «вычищенных» с ее фамилией стенографировала и печатала уже другая секретарша другого начальника. Историю отсидки бабка рассказала Пашке в подробностях, заронив в него глубочайшую ненависть ко всем правоохранительным органам.
Почти так же сильно, как «палачей», «карателей», «вертухаев», Пашка возненавидел журналистов. Бабка давала ему почитать газеты тридцатых годов. Передовицы, бившие наотмашь черными молниями развенчанных фамилий, столбцы «врагов народа», объявления об отречении от семьи, смене фамилии, расторжении брака из-за политических убеждений, гирлянды «троцкистских охвостий», «промпартийцев», «уклонистов» - и слащаво-патетические тексты о мирном созидательном труде, победном ходе пятилеток, индустриальном марше, и славном Вожде-Учителе. Все это дышало фальшью даже через полвека.
- Мама, я хочу служить в Афгане.Все слезы мать уже выплакала. Она сухо вздохнула и без чувств опустилась на пол.
- Паша, - метался отец возле жены и сына, - зачем же ты так… Видишь, маме плохо! Ты бессердечный, сын! Мы тебя устроим в институт, все ведь уже договорено… Ты хоть знаешь, чего нам это стоило?! – сорвался он на безутешный крик.
- Не знаю. И знать не хочу. Там – жизнь. А в вашем институте – болото.
На призывном пункте райвоенкомата царил вой и стон, майская жара пекла невыносимо, «погоны» расстегивали кителя, распаренные штатские обмахивались, чем придется, падали в обморок от духоты... Среди этого Содома и Гоморры перед пожилым майором стоял неулыбчивый юнец и спокойно повторял:
- Хочу служить в Афгане!
В Афган Пашку не взяли. Служить срочную он поехал в Белоруссию, в танковую часть. Из белорусской деревни, унылый пейзаж которой необъяснимо напоминал о Хатыни, его привезли через полтора месяца, спеленутого в смирительную рубашку, бьющегося в конвульсиях, точно гигантский червяк, и воющего матом.
- Деньги есть? – спросил прапорщик в поезде.- Не про твою честь, - отозвался Пашка.
Двое старослужащих, посланных сопровождать призывников, по знаку прапора скрутили Пашке руки. Прапорщик полез во внутренний карман старого отцовского пиджака. Червонцы, скрученные незаметной для гражданского трубочкой, шмыгнули в опытную руку.
- Хорошо, бля, амеба делится… - приговаривал прапор, пересчитывая деньги.
Пашке хватило сил доплюнуть ему до угреватой физиономии. Прапорщик замер. Не спеша утерся. Сунул деньги в карман.
- Так, салажонок, ты об этом будешь жалеть каждый день службы, понял меня? Чтобы лучше дошло, начнем урок хорошего тона прямо сейчас. Ребя, объясните чмошнику, что он не прав…
Пашке методично, с удовольствием, набили морду и не сразу отпустили – наблюдали, искрясь радостью, как он фыркает собственной кровью из носа.
- Так… так… вот здорово! И поумнеет, и синяков не осталось…
Товарищи по призыву трусливо изучали ландшафт за окном.
- …Ну ты, салага, - сказали ему в казарме после первого же отбоя, - порядок знаешь?- Не знаю и знать не хочу.
- Чтобы к утру подворотнички были пришиты, а то век будешь очко зубной щеткой драить!
- Ничего я тебе пришивать не обязан.
- Ты как разговариваешь, чмо болотное?!
- А как с хамом разговаривать?
Пашку били все деды казармы, так, что он не смог подняться по команде «Подъем!» Дежурный ротный устроил ему разнос, но, приглядевшись, послал парня в санчасть. Там врач долго пытал Пашку о происхождении синяков, но добился только издевательского: «Споткнулся, упал!»
Били его впредь каждую неделю. Неравно, многие на одного, уже не по злобе, а из садистского любопытства – долго ли еще пащенок будет скалить зубы? Пащенок утратил один клык и половину верхнего резца, заработал шрам от кастета над правой бровью, на своих двоих, немилосердно хромая, перенес перелом мизинца левой ноги, но все равно посылал дедов, куда следовало. Противостояние не могло продолжаться, Пашкино слепое упорство дезорганизовало казарму, прочая молодежь внезапно прекратила доиться и угождать…
К сумеркам 14 июля деды услышали по радио, что сегодня – день взятия Бастилии. Кого-то из «духов» снарядили в сельпо за одеколоном, и тот приволок по карманам несколько пузырей «Тройного». Выжрав из украденных другим «духом» в столовой стаканов белесое молочко от бешеной коровки, прапорщик Панатюк, оплеванный Пашкой, внезапно изрек:- Французы молодцы. Они взяли Бастилию силой. Они сломили сопротивление тирании… Ребя, теперь вы поняли, что надо делать с крепостью, которая не сдается?..
- Уничтожать? – вякнул один из «дедов».
- Если уничтожать, крепостей не хватит… А от них еще может быть польза… Крепости надо – для самых умных повторю – брать силой. Столько раз, сколько сможем. Или захочем. Понятно?
- М-г-му…
- У нас тут есть своя крепость, которая не сдается. А крепости должны падать. И вот мы ее сейчас…
И как Пашка ни дрался, уже приученный держаться насмерть, двадцатирукое чудовище, отпинав его двадцатью ногами, подтащило к прапорщику Панатюку, что удобно расселся на стуле в «красном углу» казармы. После отбоя он и «деды» были здесь божествами. Им подчинялось, казалось, даже время. Рассветы для «салаг» наступали слишком поздно.- Маменькин сынок, который не любит делиться с хорошими людьми, ты помнишь, что я обещал тебе? – пел вкрадчивым голоском лисы Алисы двухметровый гнилостный детина, прапорщик по сути, по рождению под знаком двойной маленькой звездочки. Панатюк несколько секунд ждал ответа, потом носком кирзача пощекотал снизу мучительно вздернутый подбородок парня.
- Ты, конечно, помнишь. Стесняешься сказать? Или слишком гордый со мной разговаривать? Зря. Потому что я тебе запишу еще одну грубость… И за каждую – слышишь, чмошник? – за каждую буду наказывать. И сегодня, и потом… Ну, вы, долбо…, поставьте его поудобнее…
Пашку сложили в коленях, словно заржавевший циркуль, и поставили перед Панатюком в позе смерда, ждущего княжьего суда.
- Маменькин сынок, я сделаю тебе очень хорошо. Я вы… тебя в рот, чтобы ты впредь любил меня и был со мной вежливым. Это тебе за тот харчок, сука. Открой рот!
Пашкин оскал окаменел. Прапорщик Панатюк посмотрел на него, ухмыльнулся, расстегнул ремень и углом пряжки треснул парня по выбитому зубу. Пашка судорожно хватил воздуха, издав низкий стон, и Панатюк заспешил расстегнуть ширинку…
Откуда-то взялись силы, и Пашка разметал державших его, винтом взвившись с колен. Он кинулся в двери, а за ним затопотала погоня. В темноте Пашка заплутал, и тропа беглеца привела его к дальнему углу за хозблоком, где высился бетонный забор. Из-под ног он вырвал старую рессору от армейского «УАЗа» и прижался спиной к забору, выставив перед собой железную дубину. Сколько-то безумных минут он сопротивлялся, готовый уже ко встрече с любимой бабкой… но тут к нему применили встречный прием – лом, который старослужащие и прятали. Рессора, жалобно крякнув, полетела прочь, а Пашку снова стиснули десятки рук. Окровавленного, его снова поставили на колени, и чьи-то жирные пальцы сдавили ему ноздри. И когда от угрозы удушья конвульсивно открылся рот, прапорщик Панатюк привел свое намерение в исполнение… А за ним, как смутно помнилось Пашке, и другие мучители…
Он захотел умереть – и умер.
Жизнь Пашке вернули в санчасти. Он не хотел брать эту опоганенную жизнь, не хотел дышать воздухом, пропитанным клейким и мерзким запахом, не хотел, чтобы билось его слишком крепкое сердце… Пашка жаждал перестать жить, но тренированный организм не мог умереть. Умереть оставалось рассудку. Ибо в мире, где может произойти такое, нет места разуму. Пашкина душа и Пашкины мозги сговорились, пока он валялся в беспамятстве. Не приходя в сознание, Пашка забился в корчах вместе с привинченной к полу железной кроватью. Язык вывалился через губу, клочья серой пены полетели изо рта… Военврач констатировал: эпилепсия.
Пашку нашли под забором через несколько минут после того, что обесценило всю его предшествующую жизнь. Крики и удары в их казарме не остались незамеченными. Кто-то смелый поднял тревогу. Всех офицеров подняли на ноги. Весть о ЧП дошла до командира полка. В сильно смягченном виде. Но и того было достаточно. О склонностях прапорщика Панатюка комполка знал давно, а почему на вид ему не ставил… А черт его знает, почему! Теперь вот зато придется расхлебывать!
Панатюка и двоих старослужащих закатали на губу, а Пашку оттащили в лазарет. Военная прокуратура приговорила Панатюка к лишению свободы, его подельников – к условным срокам. Но не в ее компетенции было приговорить Павла Грибова к нормальной жизни.Пашке дали «белый билет». Пожизненно. Отпустить его из части одного было бы немыслимо. Почти месяц его сотрясали страшные припадки, каждый из них мог оказаться последним.
Вроде бы пошел на поправку, начал есть, разговаривать – только не улыбаться, - и однажды увидел в окно лазарета одного из старослужащих, что держали его…Пашкина кровать вмиг опустела. Военврач принесся из соседней комнаты на шум и обалдел – только что на койке доходил полутруп, и вот она пуста, одеяло на полу, покачивается створка окна… В окно военврач увидел, как его подопечный смертным боем мутузит здоровяка из «дедов», а тот уже и пищать не может, только руками прикрывает голову…
Пашка бил ногами толстого сибирского парня, но ему мерещилось, что он убивает дракона… грифона… огромное фаллическое божество кровожадных язычников… Омерзительные образы множились перед его затуманенными глазами, и по каждому из них Пашка наносил удары, истово жалея светлым краешком сознания, что нет у него меча-кладенца. Потом сказочная фауна сменилась галереей из «Звездных войн», и Пашка взлетел над поверженным космическим монстром на звездолете, готовый выпустить на растерзанное тело противника глумливую, как моча, струю жидкого огня из бластера… Пашка парил на своем звездолете, отчетливо осознавая, что он, небожитель, изнасилованный демонами, никогда не сможет вернуться в свои заоблачные чертоги, что все его запоздалые подвиги напрасны… От безысходности он обернул бластер на свое сердце, чтобы в сквозную дыру улетела вся боль вместе с жизнью…
Но умереть ему снова не дали. Офицеры применили к Пашке боевой захват обеих рук, скрутили и оттащили от жертвы. Жертва, распластавшись по земле, шумно икала. Сразу, как только из поля зрения убрали ненавистное существо, Пашка вырубился.Комполка очень старался замять дело, и ему это удалось.
А Пашка, даже под действием снотворного в вену, переживал свое изгнание из рая. За ним закрылись блистающие ворота, и он шагал по бесконечной лестнице вниз, поначалу размеренно, затем – ускоряя шаг, словно у еще невидимого подножия ее лежал сильный магнит, который влек Пашку к себе, и, наконец, он оступался и летел в черноту, а та превращалась в бездну, и посреди полета у него останавливалось сердце… Стоило душе его расстаться с опозоренным телом, она снова била бестелесной рукой в дверь нестерпимого блеска. За дверью царила Гармония, Пашкину сущность окружал хаос, и он тем горше переживал уродливость своей нынешней юдоли, что знал цену Красоте. «Пустите меня!» - взывала Пашкина душа к поднебесным жителям. «Я же равен вам по рождению! Я же видел Красоту! Я достоин быть с вами!» Но врата молчали. На Пашку веяло холодом неприятия. Потом неведомая сила снова отбрасывала его несколькими ступенями ниже, и он начинал постыдный исход… пока смерть вновь не настигала его на лету.
Отец приехал под Гродно и повез домой сына, живого, только постаревшего на глазах, потраченного по богатой шевелюре седыми штрихами, как молью.
Родители его устроили в ПТУ, когда (не прошло и года) Пашка стал похож на человека. И были тому не рады, ибо скандал потряс всю Марьину Рощу. Он до сотрясухи избил пэтэушницу, убогую дочь помойкообразных дворов, которая от скуки, а не по злобе, обругала Пашку матом, чем напомнила живо прапорщика Панатюка.
Мать Пашкина стояла на коленях посреди учительской и безнадежно плакала, рассказывая историю болезни сына. Без повторения этого ужаса никто не желал верить в психическое нездоровье Грибова. Налюбопытствовавшись вволю, педколлектив принял решение: уголовного дела не возбуждать, с семьей потерпевшей провести разъяснительную работу, если нужно, припугнуть их, потомственных почетных алкоголиков, высылкой в ЛТП, ибо девица сама нарывалась на скандал, и кроме того, была замечена и в других неблаговидных деяниях, Грибова из ПТУ исключить.
Дальнейшие метания Пашки между судорожными попытками предков устроить его судьбу и собственной волей следовать за незыблемым «Хочу!» напоминали колебания некоего субстрата в проруби. Беда была в том, что кукловод, сидящий в Пашкином черепе, и сам растерялся – парень уже не знал, чего ему хочется. Казалось, нет в этом мире ничего, способного заинтересовать Грибова. Все притягательное таилось в другом мире… но как попасть туда, оскверненный герой пока еще не ведал.
Безделье грызло крупным неотвязным комаром. В депрессии, балансируя на краешке срыва в «не-жить», он валялся на диване, обводя глазами фотографии бабки, Сталина и Галича, забывая даты, дни недели, пренебрегая пищей и гигиеной. Комар бился возле его уха, зудя что-то непотребное. Чем дальше, тем больше Пашка улавливал в мерном гудении невидимого насекомого явственный ритм, а порой и созвучные пары писков.Он любил ветреные дни за зрительную имитацию движения, перемены в жизни. И, как-то, глядя из положения лежа на верхушку тополя, расчищающего в облачном небе прогал над балконом, молодой скучающий человек ощутил в себе зуд непонятного, приподнялся, будто в судороге, напрягся и прошептал:
«Буянит ветер, захмелев,
грозит двору расправой спорой.
Кусты вжимаются в заборы,
и градом пот течет с дерев…»
Стихи «сетевого» поэта Александра Брятова.
Пот градом потек с самого Пашки. Он чувствовал жар и лихорадку. Первые стихи измучили его не хуже высокой температуры с нутряным кашлем, но, вытравив душу в еще трех строфах, посвященных ветру – пьяному комиссару, Пашка расслабился. Пришел в блаженный катарсис, рухнул на отполированную до деревянного блеска думку и глубоко, мерно задышал. По всему выходило – внутренний голос, руководящий движениями и поступками тела, придумал новую программу действий. Очень странную программу, если учесть, что Пашка даже в нежном возрасте не рифмовал «пол – стол», «кошка – окошко», «палка – селедка». И все-таки генератор стихов заработал где-то в подложечной впадине, и до конца хмурого дня Грибов, трижды настигаемый горячей дрожью, выдал еще три стихотворения. Напоследок, на пределе эмоций, выдохнулось:«Под ветром, снимающим стружку с реки,
сбивающим с курса отчаянных чаек,
и мне бы хотелось тотчас же отчалить
с течением жизни наперегонки…»
Стихи Александра Брятова.
Лирическое напряжение завершилось приступом. Побившись в конвульсиях на полу совмещенного санузла, облившись до спинного мозга водой из свернутого крана, устроив соседям репетицию всемирного потопа и не реагируя на их заполошные звонки в дверь, он пребывал в луже и нирване и счастливо улыбался потолку. Он вдруг понял, ради чего мир надругался над ним – ради того, чтобы ворота Поднебесья открылись не грубой силе и настоянию оружья, а Красоте. Только творение гармонии способно доказать небожителям, что Павел Грибов равен им, что его можно допустить за нестерпимо блещущие ворота!
Пашка очень бы удивился, узнав, что его первые опусы являли собою классические четырехстопные ямбы, амфибрахии и анапесты. Поэтической премудрости он никогда не учился.
Так за чем дело стало? Пашка по доброй воле поступил в литературный институт, и, как получалось всегда в случаях «доброй воли», весьма прилично его закончил. Родители радовались: пять лет мальчик был поглощен любимым делом. Это сказалось молниеносно – приступы поредели.
И во всех прочих смыслах Пашка стал похож на человека. Литинститутская тусовка, густо замешанная на межличностных отношениях, буквально дышала эротизмом, и младому гению трудно было оставаться белой вороной. Но был нужен толчок в регулярную жизнь – и толчок состоялся…
Левой рукой – правая, сдавив карандашу неровно заточенное горло, писала, - Пашка снял трубку телефона. Женский голос неразборчиво кликушествовал. Пашка послушал секунды три, недоуменно пожал плечами и бросил трубу.Телефон снова зарыдал, Пашка матюкнулся, рявкнул:
- Да!
- Серый! Серенький! – клокотало в трубке.
- Да не Серенький я! Беленький! Номер лучше набирайте!
- Паша! Павлуша! – крикнул кто-то из телефона. – Беда с Сереньким!
Погиб Пашкин одноклассник, Серега, которого звали Сереньким – удачливый молодой коммерсант. Разбился на новенькой машине. Его жена, девчонка из их же школы, собрала на похороны всех, кто гулял с Сереньким на выпускном.
Пашка пришел по указанному адресу и застал отлично убранную «двушку», посреди которой лежал Серенький. Пашке показалось, что успел он к моменту смерти располнеть и посолиднеть. Но смерть сузила и обезличила его. На жесткой подушечке желтело неизвестное Пашке лицо. Рядом с гробом стояла с бойким малышом на руках Оксана в отличном траурном туалете.
- Павлуша! – сразу узнала она, смахнула слезинку, хотела было обнять визитера – ребенок помешал, Оксана повела плечом: - Раздевайся в прихожей, простись…
Пацаненок вертелся на маминых руках, похныкивал:
- К папе хочу!..
- Т-шш, папа спит… Посмотри на папу! Скажи ему что-нибудь!
- Папа, ставай, посли в парк!
Оксана шмыгнула носом.
- Видишь, Павлуша, горе-то какое…
- А зачем ты… ребенку его?.. – удивился Пашка.
- А как же? – удивилась, в свою очередь, Оксана. – Отец ведь! Пусть простится…
Пашка застрял в дверях. Глаза его заметались – изголовье гроба, Оксана с дитем, сложенные на животе руки Серенького… Что-то было в этой сцене, посланное специально Павлу Грибову, дабы он понял!..
Но прошло много тягомотных похоронных минут, и только приехав на кладбище, пройдя со всей процессией вместе до свежего раскопа, проследив, как опускают в яму закрытый гроб, а Оксана тетешкает сына, Пашка сообразил. Внутренний голос нашептал ему: «Нет, весь я не умру!» И Пашка облегченно выдохнул: Серенький не умер весь, потому что от него на земле остался вот этот карапуз, теребящий мамку в жажде откушать мороженого и покататься на лошадке, а не слушать плохую музыку медных труб!
Инстинкт продолжения рода есть вечное человеческое противоборство смерти!
Безумно циничные штучки выкидывает иной раз житуха. Прямо на Серенькиных поминках Пашка ощутил такой мощный призыв плоти, что вынужден был метнуться в туалет и там долго боролся со своим упрямцем, который нашел время…
С того печального дня Пашкиным истовым хобби стали любовные похождения. Ложась в постель (прислоняя девицу к стенке, усаживая ее на себя, задирая ей юбку сзади, ибо фантазией обладал безмерной) с очередной, Пашка никогда не прибегал к презервативу. Потаенной и жгучей мечтой его было, чтобы какая-то из множества женщин, испытавших крепость Пашкиной физической любви, понесла бы ее последствия дальше в этот несовершенный мир, чтобы не умер на Земле весь Павел Грибов! Лишь бы какая-то из них забеременела, а там – хоть трава не расти!..
Когда Пашке вручили диплом Литературного института, он похвалился «корочками» родителям. Мама, противу его честолюбивых ожиданий, заплакала. То, что сын стал дипломированным поэтом (хотя в документе стояло нейтральное «филолог»), расстраивало женщину больше всего, и она породила единственный в своей жизни каламбур:- Ты, Паша, не филолог, ты – фил-олух!
За это Грибов мать зауважал.
- Как ты с этим дипломом будешь себе на хлеб зарабатывать? – сетовала мать. Дело было в середине девяностых, голодные и жестокие времена, как на стадо волки, шли на прежде благополучную семью. Не только родители–пенсионеры, но и старшие братья с «человеческими» профессиями не могли обеспечить себе уверенность в завтрашнем дне.
- Как-нибудь, - сказал Пашка. – Бог даст день, Бог даст пищу.
Это он заявил ради красного словца. Грибов был воинствующим атеистом. Он не верил, что Бог, буде он существует воплощением справедливости и мудрости, как о нем говорят, мог бы допустить такое, что сотворили некогда с рабом Его Павлом… Другая религия осенила Пашкину мятущуюся душу. В этом помог институт. Слушая курс лекций по русской философии, он обычно развлекался, сочиняя наперегонки с товарищами буриме с названиями философских концепций. Но однажды из хаоса мертвых, отвлеченных от Пашкиной системы ценности понятий выплыло имя «Владимир Иванович Вернадский», а далее – округлое и веское слово «ноосфера». И когда оно коснулось жезлом Пашкиного крутого лба, он выключился из эстетских игрищ и забав своих приятелей – весь обратился в слух. Пашка, точно робот, записал дословно все, что говорил преподаватель.
Теперь он доподлинно знал, что написано на вратах, которые никак не открываются его домогательствам. Он даже знал, отчего они не спешат принять блудного сына ноосферы – в неравной битве с силами тьмы безразумья Пашка растерял слишком много высших знаний и навыков. Их предстоит собирать по крупицам… Чтобы единожды ударить по вратам Ноосферы не кулаком, а словом, ясности и звучности неземной – и вступить победителем в божественные кущи!
Стало быть, предаться поэзии и ничему кроме… Не считая усилий по телесному продлению рода.
Литературным трудом Пашка не заработал бы не только на оплату квартиры, но и на смену белья. Работу «литературных негров» – писать в команде наемников выходящую под чужим именем коммерческую прозу - он искренне презирал. Каждая халтура отдаляла момент его вступления в ноосферу. Периодические публикации в толстых журналах да ведение каких ни то семинаров (занятия, с точки зрения ноосферы, почтенные), приносили доходы, очень удобные, чтобы прокутить их за один вечер с приятелями и приятельницами в любимой круглосуточной блинной на Таганке. О, это заведение, наследие неискоренимых семидесятых, Мекка поэтических душ! Там выпивали, курили и читали стихи ночи напролет, а буфетчица и кассирша в условно-белых халатах и «приписанный» милиционер были на «ты» с завсегдатаями. Это место Пашка обожал столь же самоотверженно, как и вычурно захламленную квартиру в Марьиной Роще. И проводил в нем вторую (а может, и первую!) часть жизни.
В этой славнейшей блинной Пашка нашел первую любовь – то был не просто ходячий инкубатор для Пашкиного семени, а человек, достойный дозы уважения. Поэтесса из Нижнего Тагила писала прелестные стихи и занималась на «соседском» семинаре. Между ними закрутился пылкий институтский роман, девушка неделями не ночевала в общежитии, и Пашку приятели уже дразнили близкой регистрацией брака, на что он отвечал гордо: «Вас забыл спросить!»… Но внезапно «невеста» делась в неведомом направлении, которое, после судорожных поисков, оказалось уральской железной дорогой. Пашка дозвонился подруге и по недомолвкам ее матери уловил грозные признаки…На билет Пашке скидывались всей семьей. Возражения держали при себе. Он поехал – туда, суеверно боясь покупать сразу «обратно».
- Нина в больнице, - сказала Пашке суровая женщина, в раскосых черных глазах и выпуклых скулах которой таилась кровь коренных уральцев. – Номер пять. Только тебе туда не надо бы…
- Почему не надо?!
- Да потому.
Она была немногословна, как гора Денежкин камень. Пашка скатился с лестницы, по наводкам прохожих нашел пятую больницу, а там обнаружил вывески «Женская консультация», «Родильное отделение», «Центр планирования семьи» и нескольких встрепанных мужиков, мающихся по холлу и двору. Это был первый шок.
Вторым оказалось явление Нины - в халатике и тапочках, без косметики, домашней более, чем в общежитейской комнате или на Пашкиной кухне. А третьим – ее долгое молчание перед краткими словами:
- Я сделала аборт, Паша.
- Но зачем?! Но почему?!
- Ты ведь говорил, что никогда не женишься, - тихо пояснила Нина. – И даже если бы не говорил… Ты не из тех, кто любит стеснять себя… А мне никак нельзя было оказаться в родном городе с ребеночком неизвестно от кого… Меня бы мама из дома выгнала… А ты бы там, в Москве, не оставил… Выхода не было, Паша… И так уже полгорода в курсе, что я здесь на аборте лежу… Санитарка здесь знакомая работает… Ходит, посмеивается… А если б я родила, в меня бы до пенсии пальцем тыкали…
Пашка не слушал Нину. Он сейчас перелистывал в уме, какую боль причинила ему эта дурочка своим необдуманным ходом. Основная цель здешней жизни оказалась выполненной, Павел Грибов продолжился в своем ребенке… Но Нина все перечеркнула, и теперь, когда она осела в Нижнем Тагиле, приходилось все начинать сначала. Главная мерзость – что произошло убийство Пашкиного корня здесь, в этой дерьмовой гинекологической больнице, под сенью пыльных фикусов и плакатами «Счастливая женщина – здоровая мать!»
Пашка ударил ее.
До вокзала он шел пешком, путаясь в незнакомом городе и не спрашивая дороги, - хотел в хаотичном движении растерять запал ненависти. Когда впереди загудели поезда и зарявкал селектор, Пашка даже удивился. Он купил билет на электричку до Екатеринбурга, и сразу же – на плацкартное место до Москвы, пересчитал оставшуюся мелочь и ввинтился в подступивший вагон. А в московском поезде не стал занимать свое место – сразу проследовал в ресторан. Там ему хватило на графинчик водки без закуси. Пашка сцепил руки на графинчике и замер в безмыслии и бесчувствии. Изредка он делал по жгучему глотку.
Его разбудил мужик, спрашивавший, свободны ли остальные три места за столиком. Пашка мотнул головой, разрешая. Мужик присоседился, взял водки, закуски и кивнул на сервировку:
- Угощайся. Ты ж, небось, со вчера не ел…
Мягко заговорил: «Что с тобой, парень? Баба?» - и незаметно для себя Пашка вытряс перед попутчиком душу. Когда второй графин пошел к концу, а Пашке ощутимо захорошело, в вагоне-ресторане появились еще двое.
- Мужики, не спится? Можно, мы к вам? Или… это, мужской разговор?..
- Ты как, парень? Пустим? – участливо спросил Пашку попутчик.
Пустили. Пашке показалось весело общаться с новыми необязательными друзьями – только до Москвы, а там с баулами уральцев уйдет весомый кусок горя…
Новые знакомые болтали за жизнь до рассвета. Пашка все более оживал. И тут из кармана одного плечистого уральца появились потертые карты.
- Хорошо сидим, мужики! Жаль по купе расходиться. Может, это… на посошок? Сыгранем по маленькой?
Пьяный Пашка сам не помнил, как согласился, как играл в примитивный покер в паре с первым своим собеседником, как со спичек перешел на деньги… И как, чуть забрезжило над горизонтом уже подмосковное солнце, оказался должен приличную сумму. Зато отлично запечатлелось в памяти, как долго, намеренно томя, раскрывает ладонь – а на ней валяется одиннадцать тысяч мелочью.
- Это что?! – подались вперед и вниз мужики, будто археологи, нарывшие в отвале пустой породы шлем Александра Македонского.
- Мужики, а у меня больше нету! – чистосердечно признался Пашка, ловя губами глупейшую улыбку. – Я весь пустой… и девушка от меня аборт сделала…
Ни слова не говоря, попутчики хором встали и покинули вагон-ресторан. А когда за ними поплелся и Пашка, мотаемый от стены к стене на каждом толчке поезда, в темном тамбуре его подстерег отличный удар – «замком» кистей в живот, а затем коленом в пах. От удара Пашка взвыл и реактивно стартанул вперед – кто-то услужливо открыл ему дверцу пассажирского отсека.
- Лети, голубь!.. Карман пуст – не садись играть, даже по маленькой!
Пашка треснулся лбом о бак с кипятком и слегка обварил шевелюру. На него тут же с удовольствием и знанием дела заорала проводница. Пашка же откусывал ломти затхлого воздуха, давился ими и не мог даже стонать по поводу максимально болезненной для мужчины травмы…
Пришел в себя Пашка только на перроне Ярославского вокзала. Но так и не соотнес пощечину, брошенную Нине, с ударом, вернувшимся от профессиональных шулеров.
Сработал закон компенсации, самый жестокий и неотвратимый из всех законов природы – и Пашка сам не заметил, как, меняя женщин ради – думалось ему – противодействия старости и смерти, попал в зависимость от их лукавого и сладкоречивого племени. Пашка подсел, будто на героин, на фигуры с мягкими формами, на безволосые личики, на сладкие губы и приятственные речи. Не он успел осознать необходимость каждый месяц обретать новую подругу – ему на это указали. Друзья гоготали, мама вздыхала… Пашка рванулся, ан поздно! – он уже был в тисках инстинкта, да не продолжения рода, а банального поиска все новых удовольствий.
А что параллельно с профессиональной ловлей на живца дочерей Евы житель ноосферы, временно командированный на землю, все больше втягивался в объятия зеленого змия, - так ведь и сей порок поэтам простителен и даже предписан…
Однажды некие светлые головы, из которых поэзия не вытравила объективного осознания мира, затеяли бизнес-проект – создали кафе-клубы, взяв для образца знаменитую «Бродячую собаку». В этих заведениях для эстетов вместе с люля-кебабами подавали отлично разделанных и поданных под пикантным соусом поэтов, бардов, рок-авторов – с гарниром из художников, театралов, киношников, густо присоленных и приперченных журналистами продвинутых газет и журналов. Там предполагалась постоянно действующая концертная программа. И нужен оказался постоянно действующий (живущий на работе) конферансье. Занятые эстеты с прохладцей отнеслись к перспективе с головой ухнуть в сомнительное на первых порах начинание. Кто соглашался быть ведущим, тот не устраивал организаторов или спонсоров – обычное дело. Так выбор пал на Пашку. Зная его неуправляемый нрав, предлагали работу опасливо… но Пашка с энтузиазмом согласился. Более того – взялся, попробовал и получилось!«Весь вечер с вами ведущий, поэт Павел Грибов!»
Авторский проект «Пикировки» Павла Грибова состоял в парных вечерах маститых литературных львов и подающих заявки гениев. Павел сам пошел искать гениев по столице, и не смог миновать литературный институт.
…Глаза у Милены были черными и приманчивыми – к таким намертво прикипают мужчины. Пашка, забредший полюбопытствовать, каких подлетков ставит на крыло его пожилой мастер, и затаившийся на последней скамье, еще не знал, как зовут девушку, сидящую в уголке аудитории. Но охотничий инстинкт повел его нос в сторону источника дразнящего запаха молоденькой и хорошенькой добычи. Пашка расположился за партой так, чтобы получше рассмотреть девушку, и заключил: то, что надо! - потер ладони и перешел в наступление.
Наступление затянулось. Девушке очень понравилось быть королевой вечера, который он («Ой! Сам Павел Грибов? Это вы, да?») учредил в «Перадоре» в ее честь. Сразу же после вечера Пашка отметил, что здорово влип – ибо не затащил девушку в койку, а начал планировать новые глупости. Узнав о бенефисе знаменитой поэтессы, живой легенды шестидесятых, в ЦДЛ, Грибов через карман вывернулся, чтобы упросить звезду пригласить молодежь с поздравлениями, и та милостиво позволила – а возглавила ассамблею «Слово преемникам!» Милена. За «преемников» разгневанная львица в буфете ЦДЛ треснула Пашку зонтиком и сообщила много нелестного, но Пашка, прыгая мячиком, увертывался от ударов, хохотал и не отбрехивался – потому, что на него глазела Милена. Ее прельстила публикация в «Знамени» и пятиминутка в «Книжной полке» на «Радио России». Не то, чтобы она не понимала, чего ради для нее так старается «сам Павел Грибов», но когда влюбленный клал ей на плечо руку и придвигался губами, девушка делала жалко-испуганное лицо и стремилась освободиться… Больше месяца стремилась, но наконец-то…
Пашка старался не думать, что стена девичьего смущения пала в награду за размещенные в сборнике «Девять отражений» стихи Милены.
И в эту голубиную идиллию томным сентябрьским вечером вторгся дротик, пущенный умелой дланью Провидения. Это я.Милена или Инна? Глупый вопрос! Конечно, обе!
Два месяца смятения чувств, беготни от одной к другой, то лед, то пламень в постели, «Пашка, читал – в «Сейчас» про Савинского написали – интересно, кто?..», шорох полосы А3, полприпадка от бешенства, газета летит в красивое недоуменное лицо, подстилка чертова, Инка, Инночка, Иннуха, сволочь, что ж ты натворила?!
- Ничего особенного не натворила, - сказала я ему. – Очень хотела тебя простить, Пашка, но поначалу не могла. Теперь же ты меня прости…Не смогла удержаться – прочитала ему великое женское:
«За все, за все меня прости,
Мой милый, что тебе я сделала!»
Ладонь обмякла, разжалась, и чахлые астры освобожденно упали на землю, прошуршав о чем-то своем с кучами совсем уже выжатой после нашего «спиритического сеанса», окончательно погасшей, разлагающейся на глазах палой листвы.
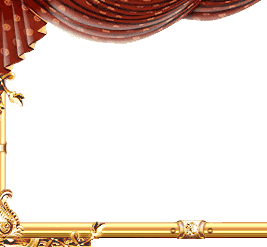

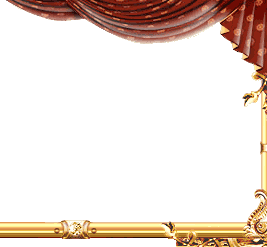





 saphel
saphel

 Утверждено
Утверждено

 О проекте
О проекте




Комментарии
Дражайшая Ольга!
Мне придется указывать вам на ваши передергивания ровно столько, сколько вы будете извращать мои слова. Потому что "за базар отвечать надо". И обещания выполнять. Хотите не читать меня - флаг в руки! Хотите стирать свои камменты - стирайте, не позорьтесь. Ваших писулек ко мне здесь больше, чем моих к вам. Вы начали то, что называете "бессмысленным диалогом", и никак не можете его прекратить. Видно, у вас времени много, а дел мало...
Ладно, впредь разумный замолчит. Но судиться из-за сетевых высказываний не так уж и глупо. Только так, судя по практике процессов, останавливают чужую безответственность в речах...
Дражайшая Ольга!
Коль скоро вы не собираетесь "сохранять лицо" и отойти, как обещали, от обсуждения моих публикаций, то и мне незачем сохранять нейтралитет. Хотя, в принципе, этим своим постом вы подрываете, на мой взгляд, собственный, а не мой авторитет. Очень недальновидно обвинять человека в "стырении" каких-либо сведений на основании того, что начало интервью с Я.М. Колкером обогащено сведениями из энциклопедии об этом поэте. Я имею право это делать в ваших же интересах - и интересах других, увы, не слишком сведущих читателей нашего портала. Так как вы наконец признались в своем незнании архаизмов. Кто же мог предположить, что вы знаете, кто такой Джон Донн?..
С тем же успехом и пользуясь вашим же приемом, я могу обвинить вас, что вы "стырили" историческую часть сведений об орнаментах древних славян у Б.Рыбакова и прочих исследователей этого вопроса. Ту самую историческую часть, которая обогащает вашу на удивление хорошую публикацию об уничтожении рязанского исторического центра. Хотела я вам под ней выразить благодарность и заметить: все же даже вам не хватает сил увидеть что-то светлое в планомерном уничтожении памятников старины... да решила быть выше чисто бабских "придирок". Ну, а вам все хочется доказать свою правоту - и мою недостойность (чего?). Хорошо, доказывайте, но имейте в виду некоторые азы.
Вы заявили, что журналистом себя не считаете. Но в газете вы работали, и стало быть, кое-что о публичных высказываниях должны знать. Например, что выражение "стыренный" в чей-либо адрес граничит с понятием "клевета", если оно намерено распространено - скажем, размещено на портале, который посещают до 1000 человек в день. И чревато неприятной возможностью доказывать в суде, что апелляция Е. Сафроновой к монографии А. Горбунова (подписанная апелляция; вы до этого места не дочитали? незнание не освобождает от ответственности) в интервью с переводчиком стихов Джона Донна есть воровство ("тырка", по-вашему) интеллектуальной собственности.
Что-то под моей статьей о "маленьком плагиаторе" Фокине вы такой нетерпимости к плагиатору не проявили. Что доказывает, на мой взгляд, вашу глубокую ко мне личную неприязнь, возникшую у вас Бог знает почему - вроде, вне реала мы с вами ничего не делили... И стремление унизить противника, переходя уже не на личности, а на приемы, подпадающие под действие если не УК РФ, то АК РФ точно. Правда, унижаете вы таким образом прежде всего сами себя. Подумайте об этом на досуге, прежде чем рассыпать публичные непроверенные обвинения.
Вам, кстати, никто не мешает также размещать на портале свои опусы из ряда художественной литературы, буде они у вас имеются. Так как администрация портала предложила пополнить его еще и художественным чтением. Именно это, а не мифическое желание "сорвать бабла", или как там вы изящно выразились, и двигало админом, кстати, а не мной, размещающим мою повесть на портале.
В целях сохранения вашего же лица еще раз настоятельно предлагаю вам исполнить ваше же обещание, и либо не читать моих публикаций вовсе, либо читать втихаря (никто же не узнает, что вы их прочли!), чтобы ваши обвинения не были столь голословными и смехотворными. А я с вами уже тепло попрощалась две недели назад. В тот момент у меня еще было к вам уважение...
Вообще, придётся повториться, я весьма сожалею, что ввязалась в этот неприятный диалог. Ведь ценность художественного произведения в конечном счёте определяется на уровне вкуса, обычного литературного вкуса, которым, как музыкальным слухом, люди читающие и пишущие наделены в разной мере. Возможно, мне стоило с самого начала помнить об этом и не реагировать на раздражители, которыми являются для меня некоторые тексты.
Я даже удалю свои предыдущие комментарии. Может быть, вам от этого спокойнее станет? Почувствуйте себя хоть раз победителем по-настоящему.
Я больше не вижу смысла вмешиваться в эти псевдолитературоведческие дискуссии, и конечно, произведений ваших давно уже не читаю. Очень удивил намёк, что я ими будто бы наслаждаюсь "втихаря". Спасибо за такую переоценку моих читательских возможностей :) к сожалению, мне и любимых авторов перечитывать пока некогда. Здесь я лишь отвечала на ваши комментарии, адресованные лично мне. Кто бы мог подумать, что это вызовет такую иронию.
Дражайшая Ольга!
Как всегда, вы оказались на высоте и извратили все, о чем я вам толковала; ничего, я уже привыкла. На всякий случай повторю: в суде мы бы разбирались не по поводу наличия у Набокова повести "Ада, или эротиада", а по поводу того, что вы совпадение названий моего рассказа и повести Набокова назвали "стыренным". Как и цитату из монографии Горбунова - "передиранием". Но желание убрать ваши комментарии показывает, что поняли вы меня правильно, а отвечать всерьез за свои иинсинуации не хотите.
На вашем месте я бы давно удалила комментарии, особенно свидетельствующие о вашей неграмотности и о том, что "бесперспективный диалог" (якобы критику литературного произведения) вы начали (вы, а не я), толком не зная, к чему придраться. Если бы я хоть раз оказалась столь недальновидной, чтобы безапелляционно рассуждать о вопросе, в котором некомпетентна... или о словах, значения которых не понимаю... Хотя вы же выходите в интернет и знаете, вероятно, что есть поисковая система "Гугль". Заносите в поисковое окно неизвестное слово - и через полминуты оно уже вам известно... и нет риска оказаться в глупом положении...
Ведь Ирина Красногорская нашла, какие сделать замечания к повести, абсолютно грамотные, взвешенные и продуманные - хотя для автора и нелицеприятные!..
Я своих комментариев, разумеется, не уберу, мне стыдиться нечего. Особенно последнего, который вас наконец-то встревожил. Разъяснение на пальцах, что за виртуальным оговором может последовать реальная ответственность (все больше судебных процессов по поводу "брякнутого" в блогах, поинтересуйтесь примерами), может пригодиться многим пользователям портала. Скажем, вашему коллеге Книголюбу.
Елена Сафронова
Дражайшая Ольга!
Мне придется указывать вам на ваши передергивания ровно столько, сколько вы будете извращать мои слова. Потому что "за базар отвечать надо". И обещания выполнять. Хотите не читать меня - флаг в руки! Хотите стирать свои камменты - стирайте, не позорьтесь. Ваших писулек ко мне
здесь больше, чем моих к вам. "
Нормально. Значит, стоит мне высказать своё мнение - это называется "позориться" и "извращать слова". А после этих оскорбительных замечаний мне же предлагается "за базар отвечать" - зря ещё не добавили: "по понятиям"!Я вам не дражайшая, пользователь saphel. Насчёт суда одно скажу: теоретически, возможны встречные иски (если допустить, что я могла бы всё бросить и заниматься чепухой). Доказать, что мои субъективные предположения (начатые словами "Я вижу..."), написанные после прочтения анонсов, а не полных текстов (которые вы мне сами же "разрешили" не читать), являются "клеветой", - будет сложно. А вот ваши высказывания здесь были далеко не всегда корректны. Например, учитывая, какую специальность я имею по диплому, обвинение меня в неграмотности вполне может рассматриваться как нанесение ущерба деловой репутации.
PPS. Как только будут улажены технические проблемы с компьютером, я удалю свои комментарии - хотя бы затем, чтобы меня не вынуждали очередными выпадами сюда возвращаться.
Прочитал повесть с интересом.
Спасибо, Рязанец! Я догадываюсь, что разноликие впечатления читателей нашего портала от этой повести не сводятся к активной, однако недоказанной, неприязни Ольги и анонима Книголюб.
Дражайшие высказавшиеся комментаторы!
"Обсуждение" зашло в тупик, и длить эту его ветвь нет смысла.
До сих пор не прозвучало ни единого голоса с КОНСТРУКТИВНОЙ критикой.
Повесть "Жители ноосферы" переделывалась три раза, и это, конечно, не предел. Ее разбирали достаточно жестко и нелицеприятно. От первого варианта остались только имена героев. Все остальное я исправляла, не зная, что такое "обида жителя ноосферы".
Здесь "обсуждение" началось с того, что Ollga проявила свое со мной постоянное несогласие (в котором она сама призналась) и попеняла мне за грубые слова, допущенные в тексте. К сожалению, Ollga не знала значения и происхождения слова "пердимонокль" - о чем недвусмысленно говорит запятая между "пердимоноклем" и "поджопником" в ее первом комментарии.
Книголюб тоже не знал значения слова "пердимонокль", но поспешил поддержать Ollg'у в борьбе за чистоту речи. При этом он допустил сколько ошибок (назвал пользователя Эрнеста Стефановича женщиной), столько и грубостей ("самка"). И далее, вместо того, чтобы признать свои фактические ошибки, эти пользователи перешли на поиск в моих ответах и текстах грубостей – дабы доказать свою правоту. Книголюб не поленился процитировать мою статью "У рязанских собственная гордость", уверяя, вне фактографии, что я называю рязанцев "рылами".
При этом посты Книголюба изобиловали, судя по всему, настолько «куртуазными» словечками, что бедная администрация портала вынуждена была их стирать. Хотя можно было и не стирать - дабы ум каждого виден был...
Думаю, что все рязанцы, которые способны были дать повети "Жители ноосферы" конструктивную оценку, уже высказались. Это Анатолий Обыденкин, Константин Паскаль, Владимир Воронов, Игорь Пресняков. С их помощью, за которую я крайне признательна, повесть приобрела ее нынешний вид.
Боюсь, что остальные так и не смогут высказаться конструктивно. Сказать что-то хорошее или даже нейтральное самолюбие не позволяет. Остается говорить только дурное - да и то ведь сформулировать не получается!.. Одно сплошное передергивание, искажение фактов и выдача своих мыслей за мои.
PS. Предвижу, что сейчас могут прибежать иные индивиды и заявить, что повесть просто дрянь, а сама Елена Сафронова – тупица, уродина, пьяница, нимфоманка, страдающая звездной болезнью. И «обсуждение» повести перейдет полностью на обсуждение моей персоны. Это опять же не будет ни конструктивной, ни просто критикой. Обыкновенным «перемыванием костей».
PPS. Специальное пояснение (а то вдруг опять кто-то не знает значения слов): «Конструктивная оценка» не тождественно «положительной оценке». Это «всего лишь» всесторонний разбор некоего художественного (и не только художественного) явления, включающий предложения по усовершенствованию и выделение как положительных, так и отрицательных его сторон. «Куртуазный» в наиболее распространенном, нелитературоведческом значении – «галантный, рыцарский, аристократический».
PPPS. Если кто-то готов поговорить о повести в другой тональности - всегда пожалуйста, буду только рада ценным замечаниям и наблюдениям!
Ирина Красногорская
(К обсуждению повести Елены Сафроновой «Жители ноосферы» на портале «История, культура и традиции Рязанского края»)
Я занимаюсь литературой вот уже тридцать лет и за это время без особых потерь пережила не одно обсуждение. Впервые прошла через него на первом областном семинаре молодых литераторов. Тогда я абсолютно не знала литературного закулисья, не входила в литературную богему и потому не представляла, что же меня ждёт на семинаре, полагала – учить будут. Почтенный критик предупредил, чтобы остерегалась особо «деревенщиков», и я поняла: «бить будут».
Били не менее усердно и потом. С особым сладострастием – собратья по перу, не получившие ещё статуса члена Союза писателей, т. е. литературная «молодёжь», въедливо подмечавшая всякие мелкие промахи, которые легко устраняются при редактировании. Били мэтры: пишите-де не то, «этого не будут читать ни домохозяйки, ни комбайнёры». Секретарь отделения счёл нужным даже указать мне на моё мелкотемье через «Литературную Россию». Мне же с глазу на глаз внушал дружески: «Ну напиши десяток проходных рассказов, мы тебя по одной книге примем».
И каждый раз на этих избиениях-тренировках, а позднее и на встречах с читателями мне весьма убедительно растолковывали, что же я хотела сказать в своём произведении. Чаще всего этого-то я как раз говорить не собиралась: «нам не дано предугадать…».Меня удивило поэтому, что критики повести Елены Сафроновой на портале не попытались ей объяснить, о чём же она написала, все дружно не приняли её лексики и на этом неприятии сосредоточились. А какая лексика должна быть у персонажей повести, живущих у Помойки, когда эта самая Помойка едва ли не главный герой её?
(Название «помойка» в наше время, конечно, устарело, правильнее было бы – мусорка. Но будем следовать традиции.) Как говорить должна юная женщина, которая то и дело пачкается грязью – в быту, на службе, в суррогате любви?
По-моему, уважаемые критики «не за тот кончик дёрнули»: следовало говорить и обсуждать, прежде всего, содержание повести. Она же, на мой взгляд, о том, куда катится наше искусство и, в частности, литература, которой мы служим. Если в молодёжной литературной среде сейчас действительно так, то…
Я сначала пришла в смятение: какой ужас – Елена поддалась конъюнктуре, «чернуха» всё ещё в моде. Теперь вот думаю: отважный она автор – вызвала огонь на себя, но предупредила о надвигающейся катастрофе. Или ещё одно сравнение: ринулась навстречу набирающему скорость поезду, пытаясь остановить… Но, похоже, сама своего поступка не сознаёт, а потому отбивается от критических нападок, кивает на Сорокина и прочих любителей сленга и крепких словечек. Да разве они – главное, хотя, пожалуй, автор повести ими всё-таки увлеклась. Обратить внимание читателю следует на драму женщины, которая пошла в жизни не той дорогой, угодила в вонючую трясину и выбраться из неё не может. Мне она напомнила Настю из пьесы М. Горького «На дне». Да и сама повесть с этой пьесой схожа. Представленная в ней литературная богема тоже на самом дне. Правда, наряженные в лохмотья горьковские персонажи выражались менее «изощрённо», нежели сафроновские поэты в модном «прикиде». Но тогда мат употребляли только ломовые извозчики, сапожники и аристократы, и поэты в большинстве своём не были альфонсами.
Однако главное в повести – всё-таки не судьба этой слабой особы, видящей опору в первом встречном, а судьба нашего искусства, которое незаметно оккупируется невежественными, амбициозными альфонсами, говорящими на сленге, способными сочинять плохонькие вирши, которые героине в любовном угаре кажутся шедеврами.Я восприняла повесть как предупреждение на примере одной отдельной литературной кучки, отнюдь не «могучей». Видимо, редакции двух журналов и портала увидели в повести то же самое, а потому и опубликовали её. Кстати, ключиком к раскрытию содержания служит название повести «Жители ноосферы». Сарказмом оно так и пышет…
Конечно, не всё так плачевно в литературной среде «Березани». Есть талантливые поэты и неплохие прозаики. В том и другом качестве представлялась и сама Елена. Да и отклики на повесть говорят о нашем хорошем литературном потенциале.Но всё-таки не от хорошей жизни написала Елена эту повесть. Как же было больно ей перевоплощаться в свою героиню! Сколько энергии должно было отнять у неё это перевоплощение, это проживание у Помойки.
Знакомая с другими произведениями Елены, я тревожусь за неё: как бы она не надорвалась в своём бичевании зла и порока. Ведь некогда и сильный мужчина Леонид Андреев сломался. А поэтому советую ей, хрупкой и отважной, взять тайм-аут и перенестись в мир светлых грёз, как в своё время сделал Александр Грин.
Ирина Константиновна, Вы, как всегда, на высоте! Это пример настоящего КОНСТРУКТИВНОГО разбора. Благодаря всем зорко подмеченным недостаткам и нелицеприятным замечаниям!.. Спасибо!
"К сожалению, Ollga не знала значения и происхождения слова "пердимонокль"
Интересно, с какой это стати читатели обязаны знать значение архаизмов, которых нет даже в ожеговском словаре русского языка?... И даже узнав это значение, я всё-таки продолжаю считать, что начинать произведение словами: "И вот представьте себе эдакий пердимонокль" - не лучший вариант.
"Думаю, что все рязанцы, которые способны были дать повети "Жители ноосферы" конструктивную оценку, уже высказались. Это Анатолий Обыденкин, Константин Паскаль, Владимир Воронов, Игорь Пресняков."
Рада за перечисленных лиц, которые, видимо, знают, что такое пердимонокль. Интересно другое: раз все те, кто способен был оценить произведение, уже давно о нём высказались, то ради чего же было размещать сей опус на сайте истории и культуры Рязанского края (тем более что к истории, к традициям и культуре эта повесть имеет довольно-таки условное отношение?) Могу догадаться, зачем: чтобы, пользуясь случаем, срубить бабла, текст-то ведь большой. Ну а чтобы предупредить обвинение, что я говорю о повести, котрой не читала, придётся пояснить: повесть эту я прочла ещё года три назад (по совету кого-то из знакомых), видимо, в более удачном, не "журнальном" варианте (иначе вряд ли я дочитала бы её до конца). Но и тогда мне были непонятны восторги некоторых читателей по поводу этого произведения. Точно так же остаются мне и сейчас непонятными многие вещи в творчестве автора saphel.Взять хотя бы то, что я вижу на сайте по анонсам публикаций, поскольку сдерживаю своё обещание на эти страницы не заглядывать. Я вижу стыренное у Владимира Набокова название повести ("Ада, или Эротиада" - у saphel это "Ада, или флуктуация"). Далее вижу публикацию, начатую с перепечатки сведений о поэте Джоне Донне из какой-то энциклопедии, - ну наконец-то нас, тёмных посетителей сайта, решили просветить, кто такой Донн и каковы особенности его творчества! Лично мне всегда казалось недопустимым так запросто передирать чужие статьи в свою, под которой будет стоять моя фамилия и за которую мне собираются платить гонорар. Надеюсь, не только мне всё это покажется возмутительным. Пока всё.
Ольга, о том, что такое клевета, я вас уже предупредила выше. Сейчас перечла ваш пост и решила расставить точки над "и". Опять у вас вышло: "Поздравляем вас, гражданин, соврамши". Если вы и впрямь читали повесть три года назад, то читали вы только этот вариант. Другого не существует. Только очень длинная "рабочая" версия, практически роман, не опубликованная, а размещенная в интернете. Вряд ли вы могли ту версию дочитать до конца. Делаю этот уверенный вывод на основе вашего неприятия "свинцовых мерзостей жизни", которых в длинной версии закономерно больше, чем в короткой. Тем паче не могла она вам показаться "более удачной". Не читали, так и скажите честно. Не обязаловка это, поверьте! Для вас - вдвойне.
Драгоценнейший Книголюб!
Научитесь, наконец, читать то, что написано авторами, а не то, что ХОЧЕТСЯ вам прочитать у какого-то автора!
В шокировавшей вас строчке сказано буквально: "...отстоишь возбужденную очередь рыл в 15-20 из жаждущих уехать в Ташкент, Новый Уренгой и Барнаул..."
Ну? Куда едут "рыла", которые вас так возмущают, что вы фонтан дурных слов потратите, лишь бы доказать, что так выражаться непристойно?
Сегодня, 6 марта, в Рязани состоялся концерт барда Тимура Шаова, одного из лучших авторов-исполнителей, прекрасного поэта и аранжировщика. В его репертуаре есть песня "Разговор с критиком", которую я хочу подарить всем ревнителям чистоты языка. С той же доброй иронией, которую вложил в этот текст Тимур Шаов, не прибавив к ней ничего своего.
Разговор с критиком
Он пришёл с лицом убийцы,С видом злого кровопийцы,
Он сказал, что он мой критик
И добра желатель мой,
Что ему, мол, штиль мой низкий
Эстетически неблизкий,
Я фуфло, а он - Белинский,
Весь неистовый такой.
Возмущался, что я грязно,Своевольно, безобразно
Слово гадкое - "оргазм"
Безнаказанно пою.
"Ты ж не просто песни лепишь -
В нашу нравственность ты метишь!
За оргазм ты ответишь,
Гадом буду, зуб даю!"
Я пристыженно заохал,Стал прощения просить.
Сам подумал: "Дело плохо,
Этот может укусить".
Распалился он безмерно,
Оскорбить меня хотел.
"Ты вообще нудист, наверно!
А ещё очки надел!
Нет, спеть бы про палатку и костёр,Про то, как нам не страшен дождик хмурый!
Но ты засел, как вредоносный солитёр,
Во чреве исстрадавшейся культуры!
Культуры -Мультуры,
Куль-куль-куль-куль,
Муль-муль-муль-муль.
Вреден я, не отпираюсь.Утопил Му-Му я, каюсь.
Всё скажу, во всём сознаюсь,
Только не вели казнить.
Это я бомбил Балканы,
Я замучил Корвалана,
И Александра Мирзаяна
Я планировал убить.
А как выпью политуру,Так сажусь писать халтуру.
Постамент родной культуры
Я царапаю гвоздём.
Клеветник и очернитель,
Юных девушек растлитель,
И вообще я - врач-вредитель,
Приходите на прием!
Если есть где рай для бардов -Я туда не попаду.
Если есть где ад для бардов,
То гореть мне в том аду.
А в раю стоят палатки,
Всё халявное кругом -
Чай густой, а уксус сладкий,
И все песни лишь о том, что:
Да здравствуют палатки и костёр,Наш строй гуманный, развитой туризм,
Ведёт народ к победам ля минор.
Всё остальное - ревизионизм.
И разгневанный радетельЗа чужую добродетель
На меня за песни эти
Епитимью наложил.
Ты, говорит, обязан, хоть я тресни,
Написать сто двадцать песен
О туризме и о лесе
Кровью все взамен чернил.
Думал я: "Достал, постылый!Чо те надо-то, мужик?
Серафим ты шестикрылый,
Ну вырви грешный мой язык!"
Слушал я, ушами хлопал,
А когда совсем устал,
То сказал я громко: "Жопа!"
Тут он в обморок упал.
Но с тех пор в душе покоя нет,И от переживания такого
Как-то мне приснился Афанасий Фет,
Бьющий Иван Семёныча Баркова.
Он лупил его кастетом,Приговаривал при этом:
"Я пришёл к тебе с приветом
Рассказать, что солнце встало,
Что воспитанным поэтам
Выражаться не пристало".
А Барков просил прощенья,
Сжёг поэму про Луку.
Вот такое вот знаменье
Мне приснилось, дураку.
Но я песню написал назло врагам,Как одна возлюбленная пара
У костра, в палатке, под гитару
Получила пламенный оргазм.
Учитывая, насколько обсуждаемый вопрос, вообще-то, стар для русскоязычной литературы (изображать низменные стороны жизни у нас далеко не Лимонов первым начал, о чём как раз и говорит Шаов, упоминая про Баркова) - могу предположить, что никаким литературным новаторством здесь и не пахнет. Но если в 18-19-м веке это ещё могло сойти за страсть к экспериментам, то сейчас... по-моему, это просто дешёвое заигрывание с публикой. И всё-таки, можно замечать в жизни более светлые стороны и в своих текстах тоже уделять внимание именно им - а можно видеть вокруг только пьянь и скверну и излагать свои мысли аналогично. На этом я выхожу из обсуждения и постараюсь, честное слово, впредь не просматривать Ваших публикаций, чтобы не натыкаться на вещи, которые вызывают моё несогласие.
Честное слово, Ольга, для Вас это будет, наверное, наилучшим выходом из положения. Моя совесть чиста, ибо я никогда в отношении Вас не переходила на личности, не пыталась задеть (тем паче оскорбить) конкретно Вас, тщательно подбирала слова для полемики с Вами - и, думаю, Вы не сможете утверждать обратного, не покривив душой. А Ваше неприятие моих взглядов, - Ваше право.
Искренне желаю Вам видеть в жизни только светлые стороны, проходя по улицам, созерцая помойки, нищих, пьяниц, обманы, воровство, драки - и читать только светлые книги!..
Я сожалею только об одном - что вообще начала обсуждение. С людьми, которые всегда правы, нет смысла спорить. Ведь они всё равно останутся при своём.
Ольга, все движется туда, куда и должно от задорных "Нихеравзад" пользователя ernest и пубертатных "поджопников" пользователя saphel до откровенной матерщины пользователя Рязанец http://history-ryazan.ru/node/5202#comment-721
Одним словом, скотство, активно выдаваемое за высокую литературу и якобы некие беспредельные откровения гениальных писательских душ.
И вдвойне горько от того, что ernest и saphel - женщины (хотя в данном случае более подходит термин самки!).
Мсье Книголюб!"Самку" я на первый раз практически обойду молчанием, но имейте, пожалуйста, в виду, что пользователь ernest - мужчина (пользуясь Вашей терминологией - "самец").
Комментарий удален администрацией.
Для пользователей, которые не успели ознакомиться с моим комментарием сообщаю в качестве самооправдания, что не понимаю причин удаления моего комментария, поскольку в нем содержалась цитата из другого произведения данного автора "У рязанских собственная гордость!", в котором наш город сравнивается с навозной кучей, а рязанцы названы "рылами". В первоисточнике редакция крамолы не видит, а цитату посчитала общественноопасной!
А я вот бесконечно могу перечитывать Веничку Ерофеева и порадаться, какие глубины души "человека из советского народа" раскрыл он с такой высокой поэтичностью, что дух захватывает... Сколько поэзии в его простонародном говоре, безыскусной ругани, отрывистых болезненных мыслях! Я все время думаю - какое это многоплановое, почти бездонное произведение, к которому так применима поговорка "каждый читает свою Библию"!.. В смысле - каждый читающий видит в ней что-то свое. Возможно, Вы увидели там только мат и грубость - что ж, Веничка бы, наверное, понимающе усмехнулся...
Зачем строить предположения о моей будто бы негативной реакции на других авторов? Я не собираюсь здесь анализировать многоплановое творчество Венедикта Ерофеева, уже хотя бы потому, что Ваши произведения рановато ставить на одну доску с его. А то ведь какая своеобразная логика вырисовывается: "кому не нравятся литературные произведения Елены Сафроновой - тот, значит, не признаёт и Ерофеева". Ничего себе, сравненьице...
Заметьте, Ольга, Вы сделали такой вывод и Вы его озвучили. Я ничего, что могло бы быть истолковано в таком ракурсе, не говорила.
Благодарю Вас и мсье Книголюба за читательское внимание к моей повести.
Заметьте, Ольга, Вы сделали такой вывод и Вы его озвучили. Я ничего, что могло бы быть истолковано в таком ракурсе, не говорила.
Благодарю Вас и мсье Книголюба за читательское внимание к моей повести.
Молодец, Оля! Отожгла!
А где же Татьяна Шустова - главный на нашем сайте специалист по звёздным болезням?! Если Вы, доктор, со мной закончили - то вот Вам новый пациент!
Ольга, какая буква в моем ответе дала повод думать, что я будто бы обиделась?
Не скрою, меня тоже удивила постановка Вашего вопроса.
"Интересно, все эти слова -"пердимонокль", "поджопники", "разбиралась как хрюшка в колбасных обрезках" - это авторские неологизмы или почерпнуто из каких-то местных диалектов?" Согласитесь, что на него я Вам и ответила. Буквально.
Далее, по сути отзыва. Конечно, я догадывалась изначально, что Вы хотели покритиковать автора за использование в повести грубых выражений. Кстати, как мы уже выяснили, слово "пердимонокль" грубостью не является. Всего лишь калькой с французского.
Немного странно, что Вы оставили комментарий по прочтении только первой страницы повести. Впрочем, я не против, если Вы будете их оставлять под каждой страницей... Но в конечном итоге о литературном произведении говорят после прочтения его в целом, а не фрагментарно.
Позиция Ваша относительно того, что в литературу не стоит тащить грязь, которой полно и в повседневной жизни, мне хорошо знакома. Она очень распространена среди школьных учителей, например... Здесь я с Вами (и с Вашими сторонниками) не согласна. Я принадлежу к сторонникам позиции, что литература должна не приукрашивать жизнь (как это делают жанры социалистического реализма либо "гламура") и не "воспитывать подрастающее поколение", а отражать мир во всем многообразии.
И, честно говоря, если Вам эти словечки кажется "грязью", то боюсь себе представить Вашу реакцию на произведения Э. Лимонова, М. Веллера, Вик. Ерофеева, да и Венички Ерофеева, не говоря уже о В. Сорокине.
Когда-то и мне казалось, что все эти авторы нашли какие-то новые способы "отражать мир во всём его многообразии", однако читать их во второй раз почему-то не тянет.
Одним словом, скотство, активно выдаваемое за высокую литературу и якобы некие беспредельные откровения гениальных писательских душ.
И вдвойне горько от того, что ernest и saphel - женщины (хотя в данном случае более подходит термин самки!).
Каких МЕСТНЫХ диалектов, Ольга?..
"Пердимонколь" - слово, существующее в русском языке с тех пор, когда французский язык был более распространен в определенных кругах (носящих европейское платье и боящихся публичного конфуза), чем русский. Происходит от французского словосочетания «perdit monocle» — «потерял монокль». Якобы в основе этого словосочетания лежал реальный конфуз, когда у некоей важной персоны выпал в суп на званом обеде монокль... Слово это имеется в "Словаре русского жаргона" 2000 года издания.
Остальные слова и выражения, приведенные Вами, полагаю, не нуждаются в переводе ни на диалект, ни с диалекта.
Не стоит обижаться - ведь Вы для того и разместили своё произведение, которое уже не раз публиковалось и даже заняло какое-то место на литературном конкурсе, чтобы получить отзывы читателей? Меня оно немного удивило. Зачем тащить в художественную литературу ту грязь, от которой и без того не знаешь как отгородиться в повседневной жизни?