Татьяна Шустова
Князья Барятинские, владевшие перед революцией Шереметьево-Песочинской экономией, принадлежали к очень древнему и знатному княжескому роду. Они были внуками князя Ивана Ивановича Барятинского от его младшего сына Виктора, а фельдмаршалу князю Александру Ивановичу Барятинскому приходились племянниками.

Князь Иван Иванович Барятинский –
дедушка последних владельцев

Княгиня Мария Федоровна Барятинская –
бабушка последних владельцев

Князь Виктор Иванович Барятинский –
отец последних владельцев

Князь Александр Иванович Барятинский –
дядя последних владельцев
Экономия принадлежала князьям Виктору и Ивану Викторовичам Барятинским, княжнам Ольге и Марии Викторовнам Барятинским и княгине Леонилле Викторовне Голицыной. В наследство они ее получили от матери – племянницы Елены Иринеевны Титовой. Хозяйство Барятинских принимало участие в выставках, организуемых Рязанским обществом сельского хозяйства, и было неоднократно отмечено наградами.
Князья Барятинские в 1912 году построили жилой дом, в котором в 1920 году был открыт детский дом, и школу для крестьянских детей.

Шереметьево-Песочинский детский дом. 30-е годы прошлого века.
Бывшее имение князей Барятинских

Сад детского дома.
Бывшее имение князей Барятинских

Школа, построенная князьями Барятинскими
для крестьянских детей. Фото Т.Шустовой
В современных изданиях, когда пишут о Барятинских, очень часто упоминают о двух записках (без предоставления их текста), принадлежащих перу князя Ивана Ивановича: Мысли о воспитании моего сына. Род наставлений сыну. В журнале «Русский архив» за 1888 год был опубликован труд А.Л.Зиссермана «Фельдмаршал князь А.И.Барятинский», в котором приведены и эти записки. Я думаю, что они стоят того, чтобы быть прочитанными. Начало труда А.Л.Зиссермана в этой публикации приводится почти без сокращений.
А.Л.Зиссерман
Родоначальником князей Барятинских был Александр Андреевич Мезецкий-Барятинский, принадлежащий к потомству святого князя Михаила Черниговского. Название Барятинского князь Александр принял по владению Барятинскою волостью на реке Клетом, в Мещовском уезде Калужской губернии. Многие из потомков его отличались на государственной службе: Михаил Федорович Барятинский в Ливонской войне 1579 года, воевода Иван Михайлович в Литовской войне 1581 года. Он же в 1582 году ходил в Казань, а в 1592 году был послан к датскому королю Фридриху для окончательного определения границ в Лапландии.
Князь Иван Федорович отличался в 1713 г. В войне с Шведами, а в 1719 г. Разбил их отряд под самым Стокгольмом. Он участвовал с Петром I-м в Персидском походе и в чине бригадира был комендантом в Баку. По кончине Петра князь Иван противился олигархическим замыслам Долгоруких и прочих, желавших ограничить самодержавную власть Анны Иоанновны, и во все времена ее царствования был постоянно отличаем; после был он назначен главнокомандующим в Москве, наконец генерал-губернатором Малороссии, где и умер в мае 1738 г., в чине генерал-аншефа, к сожалению местного населения, которым он управлял с большою кротостью.
Дед фельдмаршала, князь Иван Сергеевич генерал-поручик и Александровский кавалер был женат на принцессе Голштейн-Бекской. Он служил в лейб-компании Елизаветы Петровны, находясь при ней ординарцем до самой ея кончины. Петр III назначил его флигель-адьютантом. Императрица Екатерина II отдавала ему справедливость, хотя он сохранил непоколебимую верность Петру. Она определила его кавалером при наследнике престола, которому он всегда говорил правду, на что Павел Петрович иногда досадовал и жаловался другим приближенным, однако сохранял к Ивану Сергеевичу признательность. В 1763 году он, 25 лет, пожалован в полковники и отправлен в Швецию с особым поручением, затем занимал пост посланника Екатерины II при короле Людовике XVI, в самое блестящее время его царствования. Он с австрийским послом, в качестве посредников, подписали Версальский мир 3-го сентября 1783 г. и получил портреты государей Франции, Англии, и Испании осыпанные бриллиантами. Он сопровождал великого князя Павла Петровича с супругою Марией Федоровною, когда они путешествовали по Европе под именем Comtesse du Nord, и получил от них готовальню с портретами и надписью Sonvenir d amitie. На прощальной аудиенции, Людовик XVI подарил ему свой портрет, украшенный бриллиантами и написал императрице Екатерине лестный об нем отзыв за умение в течение 12-ти лет поддерживать добрые отношения между двумя государствами. Император Павел, встретив князя Ивана Сергеевича в Москве, дружественно обнял его и подарил ему бриллиантами украшенную табакерку; император Александр I-й, пред въездом в Москву на коронацию, останавливался в загородном доме князя и тоже подарил ему табакерку богато осыпанную камнями.
Единственный сын его, князь Иван Иванович, начал службу в Семеновском полку и участвовал в знаменитом штурме Праги (1794 г.), где и получил Георгиевский крест. В последние годы царствования императрицы Екатерины был он одним из самых блестящих представителей высшего придворного общества и по словам князя Адама Чарторыйского (Memoires) отличался остроумием, под час довольно колким. Перейдя затем в дипломатическую службу, был он секретарем посольства в Лондоне, при графе С.Р. Воронцове. Тут он женился на дочери лорда Шерборна, но вскоре овдовел; затем был долгое время нашим посланником при Баварском дворе, а по выходе в отставку графа С.Р. Воронцова предложен был пост посла в Лондоне; но он отказался от этого важного и почетного назначения, предпочитая поселиться в деревне и посвятить свою жизнь на устройство своих обширных имений, с применением на практике приобретенных во время путешествия по Европе агрономических познаний. Князь Иван Иваныч в 1813 году вторично женился в Теплице на дочери Прусского при Венском дворе посланника, графа Келлера, от которой имел семь человек детей.
Первенцем его был сын Александр, будущий фельдмаршал, родившийся 2 мая 1815 года. Восприемником от святой купели был Алексей Иванович Машкин.…
Князь Иван Иваныч Барятинский, по словам графа П.Х.Граббе (бывшего военным агентом в Мюнхене) «высокий, видный, тонкий мужчина, с правильными, приятными чертами лица, волосы с проседью, коротко подстриженный; жест скорый и нетерпеливый: общее выражение светского человека и знатности», был человек высокообразованный и умный. Озабоченный воспитанием старшего сына, он уже в сентябре 1815 года составил программу его воспитания. Записка (на Французском языке) носит название: мысли о воспитании моего сына, а через несколько лет (1821 г.) он написал еще другую записку. Род наставлений сыну: «Conseils a mon fils aine». Обе записки замечательны во многих отношениях и мы приводим их здесь (первую почти целиком, вторую в извлечении).
«До семилетнего возраста воспитание мальчика скорее физическое, чем нравственное. Внушение ему о правде и неправде следует делать с ранней поры. Ложь и преумеренность главные пороки детства. Необходимо быть неумолимым в искоренении лжи, потому что она унижает человека.
« До пятилетнего возраста можно будет оставить сына моего на руках женщин.
«Как только он будет в состоянии бегать и прыгать, следует постараться укрепить его телодвижением и холодным купанием, к которому надо приучить постепенно. Купание в реке самое здоровое. Надо будет достать ему две или три маленьких верховых лошадки, на которых он будет поочереди ездить без седла: ничто не придает больше ловкости, как этот способ езды кочевых народов. Сыновья наших крестьян – наездники с ранней поры и скачут на отцовских лошадях с пяти или шести лет с изумительною ловкостью.
«Когда мой сын достигнет семилетнего возраста, я бы желал, чтобы он начал учиться Славянскому, Латинскому, Греческому, и в особенности родному языку. С этого возраста до двенадцати лет он приобретет некоторые познания по этим языкам, а в 14 и 15 лет он будет в состоянии с пользою читать классических авторов. Изучение рисования и арифметики должно будет идти рядом с изучение мертвых языков, т. е. с семи лет.
«В 12 лет надо будет постараться приохотить его к механике; ничего нет легче: следует только с семилетнего возраста наполнить его комнату маленькими моделями, чтобы возбудить в нем любопытство и, в особенности, следует ясно и без педантизма объяснять ему основные начала механики. Эта наука безсознательно поведет его к знанию практической математики. Предшествуемая высшей математикой, это род метафизики и для взрослого, а тем более для ребенка. Надо его заставлять делать чертежи машин и в особенности объяснять их.
«Вообще было бы хорошо приучить его применять на каждом шагу развития его умственных способностей практику к теории. Механика заставит его полюбить земледелие, которому она каждый день оказывает столь важные услуги, а земледелие приохотить его к химии, имеющие к ней такие близкие отношения. С восьми до пятнадцатилетнего возраста надо будет его учить, занимая разнообразными опытами: и особенно надо постараться вызвать в нем соревнование, назначая ему награды, состоящие из хороших книг, земледельческих орудий и других, имеющих отношение к изучаемым им наукам.
«Я желаю также, чтобы в его распоряжение предоставили несколько десятин земли, на которых он бы производил агрономические опыты. Это будет новый способ доставлять ему движение. Ему стоит дать легкий и хороший плуг, также борону, маленькую сеятельную машину и т. д.
«Непременно нужно будет освоить его со всеми этими инструментами, научить его размежеванию полей, заставлять его анализировать состав почвы, научить его отличать разные травы лугов, заставлять его вести по-русски списки о посевах и урожай его пашни.«На землю, назначенную ему, следует смотреть, как на рассадник хлебных растений, имеющую двойную цель: обучать его и в тоже время доставлять значительное количество зерна, в виду лучшей эксплуатации моих земель.
Вырученные им с своих полевых работ сумма денег будет предназначена в пользу бедных. Он должен будет сам распределять их между ними. Употребление химии до того необходимое обыкновенно, что она должна быть неизбежною частью хорошего воспитания. Это одна из наук наиболее важных для крупного землевладельца. И даже для государственного человека. Она особенно необходима в такой стране, как наша, где много еще предстоит сделать и где знающий химик должен считаться ценилизатором и, в некотором роде, созидателем.
Я требую также, чтобы сын мой упражнялся с способными и образованными землемерами в межевании. Ему необходимо знание тригонометрии. Можно легко заметить по этим различным родам занятий, что я желаю, чтобы сын мой воспитывался в деревне до шестнадцатилетнего возраста, когда он должен начать путешествовать.
Практическое по преимуществу образование должно сделать из него человека в том возрасте, когда другие мальчики играют комедии, муштруются во фронте, занимаясь вообще одними глупостями. Я хочу, чтобы он был в состоянии управляться с топором, с острогом и плугом, чтобы он искусно точил, мог измерить всякого рода местность, умел бы плавать, бороться, носить тяжести, ездить верхом, стрелять; вообще, чтобы все эти упражнения были употреблены в дело для развития его нравственных и физических способностей.
Он должен положить себе за постоянное правило выучивать наизусть стихи некоторых латинских и греческих классиков и декламировать их вслух. Память его следует постоянно упражнять. Надо заставлять его сочинять речи по-русски на нравственные и исторические темы. Первый отдел истории, который его будут учить, должен быть отечественным. Также следует поступить и с изучение географии. Это предварительное ознакомление будет ему очень полезно при предстоящем ему путешествии по отечеству. Следует заставлять его по одному разу в месяц произносить громкие речи, им самим составленные и, лучше всего, при многочисленных слушателях.[1]Так как я хочу, чтобы мой сын с ранних лет путешествовал, то он должен приобрести силу, ловкость и всякие познания, нужные для уменья применять на каждом шагу практику к теории. Все должно быть в действии во время путешествия.
Путешествуя, живешь полною жизнью. Умственные и физические способности раньше развиваются, и с такою стремительностию и инергиею, которую молодые люди, воспитанные в городах и университетах, не могут постигнуть. Мой сын увидит, что читают другие дети. Это научит его с ранней поры оценивать по достоинству все иллюзии, которыми питают молодых людей в академиях, и ненавидеть пороки, губящие их, когда они вступают в свет. Вместе с путешествием круг его понятий будет расширяться.
[1] К сожалению, эта часть была совершенно упущена из виду, и князь Александр Иванович, вообще хороший рассказчик в тесном кругу приближенных лиц, отличался чрезвычайною застенчивостью, когда нужно было говорить в большом обществе. Покойных граф В.А.Соллогуб, в своих воспоминаниях (см. Историч. Вестник, январь 1886 г.) между прочим рассказывает следующее: «Фельдмаршал князь А.И.Барятинский, невозмутимый под пулями, увлекательный в беседах интимных, конфузился и терялся, когда ему приходилось говорить официально. Когда он жил в Деревенках, наследованном им от графа Толстого, я посетил его, и, по обыкновению, он продержал меня до глубокой ночи, читая мне свои письма и статьи о государственных делах. Все его интересовало. Обо всем он имел твердое мнение «позвольте спросить» , заметил я, «отчего же вы не живете в Петербурге и не присутствуете в государственном совете?» - «оттого», отвечал печально князь, «что я застенчив, не могу говорить», и, говоря это, он запнулся, как будто видя себя в заседании. Застенчевых людей вообще много на свете: но России их более всего: мы не приучены говорить в обществе, и ораторство у нас пока еще редкое исключение…»
Следует постараться ознакомить его со статистикой и историей каждой страны, посещаемой им. Таким образом, он приобретет массу познаний, которых профессора истории и статистики никогда не смогли бы сообщить ему в четырех стенах кабинета.
«Я желаю, чтобы следующия лица сопутствовали ему в его шестилетнем путешествии по отечеству:1) Доктор, хороший химик и ботаник, без различия какой нации.
2) Механик – Англичанин, Голландец или Швейцарец.
3) Немец, знающий Греческий и Латинский языки.
4) Почтенный наставник для руководства всем его воспитанием.»
«Я желаю, чтобы этот наставник был твёрдаго, но кроткаго характера, честный и с основательным образованием, доброй нравственности, в возрасте от 35 до 40 лет, и чтобы он ни в чём не отставал от этого плана воспитания».
«Я желаю также, чтобы мой сын был сопровождаем Русским учителем, хорошо знакомым со своим отечеством, с его законами и историею. Необходимо будет познакомить сына моего, насколько возможно, со всеми нововведениями, с формами нашего суда и администрации, уяснить ему чудовищныя злоупотребления, которыя вкрались в наше законодательство, заставить его посещать все учреждения и фабрики страны, обращать его внимание на различныя местныя производства, одним словом, чтобы он замечал всё интересное в посещаемых им областях империи. Он должен будет вести по русски дневник своего путешествия и переводить его на Французский, Английский или на тот язык, с которым он больше всего освоится. Слог его должен быть чист, ясен и сжат. Я требую, чтобы он путешествовал четыре года по Европейской, а остальные два по Азиатской России. После шести лет путешествия по отечеству, надо будет послать его через Кронштадт, морем, в Голландию, которую он будет изучать в течение года; оттуда он отправится в Англию, где останется в продолжение двух лет. Там надо найти образованнаго человека, который, вместе с вышеупомянутыми лицами, сопровождал бы его во все три королевства Великобритании, государственное устройство которых должно быть ему основательно объяснено, чтобы он мог изучать с величайшим вниманием все чудеса человеческой культуры. После двух лет пребывания в Англии, он должен продолжать своё путешествие по Европе следующим образом: он начнёт с Франции, Испании и Италии, оттуда он отправится в Швейцарию и Германию, чтобы возвратиться в отечество через Данию, Норвегию и Швецию».
«Мне нет надобности советовать ему изучать всё, объезжая Европу; я надеюсь, что он к этому привыкнет с 16–ти летнего возраста. Когда, достигнув 25-26 лет, сын возвратится в Россию, он непременно будет полезным слугою своего отечества. Надо будет определить его в Министерство Иностранных Дел или Финансов, и можно предвидеть, что он будет лучше знать Россию, чем большинство управляющих министров, попавших на эти места из придворных куртизанов, и руководимых корыстолюбивыми невеждами-секретарями. Лишнее было бы говорить здесь, что сын мой должен быть ознакомлен со своею религией духовным отцом. Это само собою разумеется. Надо постараться внушить ему чувство энтузиазма к отечеству, желание изучить его, быть ему полезным и отличаться на службе своего Государя, котораго он должен уважать и ему повиноваться, каков бы ни был его характер, почитая в нём своего Монарха, которому он присягал. Если Бог даст моему сыну усердно, отлично и добросовестно послужить своему отечеству, он может удалиться в конце своей службы с честью в свои прекрасныя владения, чтобы просвещать там своих крестьян, осчастливить их и ввести употребления искусств и ремёсел, которыя увеличат его состояние и, вместе с тем, доставят занятие массе праздных людей. С тем воспитанием, которое он получит, я уверен, что он усовершенствует всё оставленное мною ему и будет полезен на службе, а следовательно и отечеству.»
«Я прошу, как милости, со стороны моей жены, не делать из него ни военнаго, ни дипломата. У нас и без того много героев, декорированных хвастунов, куртизанов. Россия больной гигант; долг людей, избранных по своему происхождению и богатству, действительно служить и поддерживать государство».
Мысли прекрасныя, очевидно навеянныя долгим пребыванием на Западе, в особенности в Англии…
Во второй записке князь Иван Иванович обращался к сыну с следующими советами:«Ты, по всей вероятности, будешь это читать, когда я перестану существовать!… Прежде всего и тебе советую бояться и любить Бога и затем избегать тех, которые этого не делают. Надо быть хорошим христианином, так как христианские принципы божественны, и поступать, насколько ты будешь в состоянии, по наставлению Евангелия. В десяти заповедях Моисея и в Молитве Господней ты найдёшь весь необходимый материал для образования из себя честнаго человека»[2] .
«Делай это для пользы и счастия своего и твоего ближняго».
«Мне не надо тебе советовать любить твоих братьев, твоих сестёр».
«Что касается сыновней любви к твоей милой и доброй матери, которая составила счастье моей жизни и никогда не переставала существовать для счастья своих детей, я уверен, что ты всегда будешь вести себя так, чтобы осчастливить её. Этот совет заключает в себе вообще весь род поведения, котораго ты должен держаться в отношении к ней».
«Ты никогда не будешь сам по себе счастлив, если пренебрежёшь своими сыновними обязанностями; ты будешь отвергнут Богом и людьми».
«Если ты будешь иметь желание жениться молодым и уверенность сделать твою жену счастливой, женись; но женись хорошо!… Главное счастье жизни мы испытываем, имея добродетельную, любезную, хорошую и кроткую подругу. Не забывай быть снисходительным к ея недостаткам; в особенности не будь с нею суров. Ничто так не отталкивает жену от мужа, как жестокость обращения. Такое обращение несправедливо. Она будет искать против тебя чужой помощи. Старайся никогда не ссориться с нею на глазах света. Это также смешно, как и мало деликатно в отношении к ней и к другим. Ты будешь служить предметом насмешек, и люди будут иметь на это полное право. Публичныя сцены делаются басней и посмеянием злых языков, аих очень много. Будь осторожен в выборе подруг твоей жены; лучше было бы, по возможности, не допускать ея иметь их, и самому заменить ей всех светских друзей. Но и ты также не должен иметь другаго друга, кроме твоей жены. Не скрывай от ея никогда ничего. Большое счастье доставлять возможность говорить вслух со вторым собой; я никогда ничего не скрывал от твоей прекрасной матери. Она была мною, а я ею. Этому-то согласию я обязан всем моим счастьем в жизни ».
[2] Этот совет глубоко запал в душу князя Александра Ивановича: он был искренно религиозен и набожен, как никто, не из вполне близких к нему людей, и предполагать не мог. Каждое утро и вечер, где бы он ни был, В дороге, в походе, он молился, нередко становясь на колени, пред маленьким образом-складнем, который неизменно вешал в головах своей кровати, поставленной непременно головой на Север. Но он не любил показывать своей набожности; даже в обществе, если затрагивались религиозные вопросы, он относился к ним как бы совершенно равнодушно. Быть может, и это было последствием застенчивости, нежелания вступать в прения, требующия плавной, сильной речи и аргументаций …
«Милое моё дитя, не упускай никогда из виду одного обстоятельства: исполнять добросовестно свои обязанности. Это доставит тебе внутреннее удовлетворение, которое поставит тебя выше всех жизненных событий».
«Будь другом, подпорой, советником и наставником своих братьев. Это друзья, дарованные тебе природою. Не отказывай им ни в чём и не требуй от них слишком многаго. Чем добрее ты будешь в отношении к ним, тем более вы подружитесь. Доброта – душа дружбы. Ничего нет трогательнее братьев-друзей».
«Провидение даровало тебе прекрасное сердце. Может быть, Оно допустит меня наслаждаться развитием твоих нравственных качеств. Но, если Оно полагает иначе, то убеждаю тебя, моё дорогое дитя, никогда не изменять великой добродетели, пренебрежённой в наш эгоистический век – признательности. Никогда не забывай тех, которые заботились отебе в детстве, которые воспитывали тебя в твоей юности, которым ты обязан их привязанностью в дни своей жизни; но оберегайся людских речей. Я в своей жизни был, к несчастию, недоверчив; но недоверчивость явилась после того, как разглядел я всю лживость людей, после того, как был ими обманут. Юность доверчива, часто - слишком. Остерегайся этих вредных иллюзий».
«Употребляй все возможныя физическия и нравственныя средства, чтобы просветить страну, где находятся твои владения, Этим прекрасно будешь служить своему Государю, стране и самому себе. Продолжай то, что я начал. Усовершенствуй, но не вводи много новых преобразований, До сих пор (1821г.) учреждения мои мне дорого обходятся и приносят мало доходов. Постройки разоряют. Можно себе позволять только постройки необходимых зданий с экономической целью, и то умеренно».
«Посвяти себя с ранней поры земледелию. Обыкновенно знание и занятие им люди откладывают до зрелаго возраста, когда нет больше ни силы, ни деятельности. Люди вооброжают, что когда они больше не в состоянии служить своему отечеству и ни на что уже не годны, они могут по крайней мере сажать у себя дома капусту… Странная и гибельная ошибка! Она обязана своим возникновением ошибочному воспитанию и предразсудкам, детской суетности родителей, желания которых сосредотачиваются в том, чтобы дети их блистали в свете и каким бы то ни было способом сделали себе карьеру, причём они никогда не забывают прибавлять, что это делается для пользы их государя и отечества. Это смешное воспитание даёт детям с ранней поры манию к чинам и орденам. Потому-то большинство из них ни что иное, как обезьяны или разукрашенные попугаи. Весьма немногие из них образованы солидным и полезным образом. Я спрашиваю у всех разсудительных людей; не превосходит ли пользою всех великих полководцев или известнейших дипломатов нашего века такие люди, как покойный герцог Бедфордский и такие, как теперь ещё живущие, г-н Кок в Англии, или как г-н Ластери, Домбаль и т. д. Во Франции, или Фелленберг и Циктет в Швейцарии, или Таер в Германии? Вот настоящие цивилизаторы наций, опоры общества, благодетели рода человеческаго».
«Какое призвание может быть лучше для человека богатаго, который употребляет своё состояние на процветание своего государства, улучшая земледелие, вводя искусства и ремёсла, достовляющие довольство и счастие обществу, и который своим примером цивилизует родную страну? Какой досуг благороднее заботы по украшению своих нив прекрасными фермами, хорошими сельскими постройками, хорошими жилищами, в которых дышат довольствие и чистота, покрывать свои поля прекрасными урожаями и улучшать их каждый год систематическими полеразделениями.? Всё радует просвящённого агронома.! Вот что и желаю, чтоб из тебя вышло, моё дорогое дитя, как для твоего собственного счастья, так и из любви к моему отечеству. Из плана воспитания, набросаннаго мною для тебя, ты увидишь, что я желаю, что бы ты знал и что бы из тебя вышло. Будь прилежен в одно и то же время, как к земледелию, так и к химии и к механике. Эти две науки будут источником радости для тебя и две сильныя подпоры для знания науки земледелия».…
Для восстановления здоровья князь Александр Иванович получил продолжительный отпуск за границу. Он путешествовал по разным странам Европы; стараясь пополнить недостатки своего образования, слушал в разных городах университетские лекции и особенно в Марсели славившегося тогда профессора математики. Там же он познакомился с Гульяновым, известным русским лингвистом, этнографом и египтологом. Старик Гульянов, видя в молодом человеке любознательность, жажду познаний, что тогда так редко встречали в кругу светской молодежи, очень к нему привязался. Будучи совершенно одиноким, не имея никого родных и близких, старик предложил князю сделаться наследником его весьма ценной, многими трудами собранной библиотеки, и в 1940 году, в Дармштате, был заключен с ним договор, в силу которого за довольно значительную сумму, библиотека, оставленная в полном пожизненном пользовании Гульянова, после его смерти становилась собственностью князя. Эта услуга дозволила русскому ученому, боровшемуся уже с тяжким недугом, окончить давно начатое издание сочинения и вполне обеспечила последние годы труженическойжизни Гульянова, скончавшегося на чужбине.
Во время этих же путешествий по Европе князь познакомился с известною портретистскою Vigee Le Brun. Князь рассказывал, что видел у нее снятые ею с натуры портреты королевы Марии Антуанеты и других лиц несчастной королевской фамилии; но еще удивительнее были портреты m-me Dubarry любовницы Людовика XV. Когда князь Александр Иванович выразил удивление, что художница могла знать Dubarry, m-me Le Brun отвечала, что во время писания этого портретаона была даже несколькими годами старше Dubarry.
В то же время князь Александр Иванович хорошо познакомился молодым графом de Falloux, известным впоследствии писателем, бывшим министром. De Falloux при встречах с знакомыми русскими всегда отзывался с большой похвалой о способностях князя Александра Ивановича и говорил, что при первом же знакомстве, не взирая, что князю было всего лет 20, предвидел предстоявшую ему блестящую будущность. В своих записках, напечатанных во французском журнале «Le Correspondant» (февраль 1889, стр. 600) граф De Falloux, между прочим, говорит: «Русская аристократия в это время (1835 г.) далека была от мысли вызывать освобождение крестьян, хотя и предвидела его; она молча пассивно готовилась к нему. Я обязан дружбе князя Александра Барятинского, впоследствии победителя Шамиля и фельдмаршала, сообщением частной записки, завещанной ему отцом, в которой излагались злоупотребления крепостным правом. Говорилось о невозможности продолжительного его существования, о желательном со стороны русского дворянства почине; вообще записка заключала в себе самые благородные, светлые мысли и наставления.В 1838-39 годах, во время путешествия по Европе с великим князем наследником Александром Николаевичем, в свите которого находился и друг князя Барятинского, граф Иосиф Михайлович Виельгорский, он, несмотря на неразлучные с таким образом жизни развлечения, находил время интересоваться и более серьезными предметами. Оба друга посвящали главным образом свое внимание всему касающемуся истории России и Славянских народов. С этою целью они собирали сочинения на разных языках, рукописи, древности, картины, оружие, исторические портреты и проч. Расходы делались общие, с условием, что со смертию одного все переходит в собственность остающегося в живых.
Сохранилось несколько писем графа Виельгорского к князю, из которых видно, с каким неослабевающим усердием они относились к своему предприятию – основанию музея, названного ими «Русский сборник». 28 ноября 1838 года из Рима Виельгорский писал, между прочим: «Я сделал такую находку для нашего кабинета, что едва удержался на ногах от восхищения. Это три картины русские, подобных которым нет во всей России. Я тебе не пишу, что это именно такое и где оне, потому что если Жуковский узнает, то тот час заставит великого князя купить. Я дал уже поручение достать их и, быть может, мы их получим за бесценок; владелец картин не понимает их важности и продает дешево; я обещал до трех тысяч и каждый день ожидаю известий об успехе. Здесь я надеюсь купить много латинских и итальянских книг, относящихся до России и Славянских земель. В будущем году наша библиотека будет иметь до 2000 томов одних иностранных сочинений».
«Здесь 26 русских художников, ожидающих заказов и сидящих без работы; никто из наших дворян им ничего не заказывает».
В следующем письме от декабря Виельгорский говорит подробнее о картинах. «1-ая, портрет боярина Микулина, посла нашего в Лондоне, в 1600 году, он очень хорошо сохранен и прекрасной работы; 2-ая, когда татары около 1570 года наводнили Россию, царь Иоанн Грозный собирался бежать в Новгород и просил королеву Елизавету дать ему убежище в Англии и отыскать невесту; тогда был сделан портрет его и отправлен в Лондон. По всем справкам это должен быть тот же самый портрет: он хорошо сделан и хорошо сохранен. Следовательно, это первый русский портрет существующий! 3-я, самая большая драгоценность в отношении костюма, картина, представляющая князя Прозоровского, посла нашего в Лондоне (при Михаиле Федоровиче) с своими сыновьями. Здесь видна вся пышность и великолепие боярского костюма; один из сыновей подает ему шапку, другой жезл; видны все подробности кафтана, рубашки, унизанной жемчугом, шапки, покрытой дорогими каменьями; работа удивительная.Это неоценимая редкость. Я окаменел, когда увидел. Это одна картина, которую наш консул в Генуе Смирнов продает и хочет за нее 8000 франков наличными деньгами. С другими он расстаться не хочет. Все три он нашел в Лондоне у антиквария, который хотел их замазать, не понимая букв, которые на них назначены (sic). На картине прозоровскогоесть описание оной славянскими буквами. Что скажешь? Я равнодушно об этом не могу думать…. Между тем я здесь собрал до 50 сочинений латинских и итальянских. Ты их у меня увидишь. Одно 1557 г., другое 1600 г. с картинами русскими.
В другом письме, от 30 января 1839 года, Виельгорский сообщал своему другу, что какой-то Шухов в Москве собрал для них: 1) нож, оправленный в золото, с ахонтами, боярина Головина; 2) рукопись с надписью патриархов; 3) грамоту императрицы Анны; 4) указ Екатерины с собственноручными приписками; 5) грамоту бургомистров г. Риги, по коей Пётр I-й утверждает их права на сто лет; 6) часы патриарха Никона; 7) грамоту царя Михаила Феодоровича Ляпунову; 8) 11 указов Петра I-го бригадиру Кропотову, с собственноручными отметками; 9) письмо Макарова о смерти Петра I-го; 10) универсал Меншикова; 11) татарский шлем с Куликова поля. «Работы по Русской библиографии сильно продвигаются и теперь, прибавляет Виельгорский, я составляю Французскую библиографию о России, труд громадный. Берг писал мне, что достал для тебя Крамера (Polonia 1589, fol), о котором ты хлопотал» и т. д.
Одним словом, молодые люди не исключительно предавались окружавшей их пустой, светской жизни, и находили средства и время для занятий, доказывающих стремление к приобретению серьёзных исторических познаний. О достоинстве же собираемых ими книг и рукописей можно судить по тому, что Археографическая Комиссия, под председательством министра народного просвещения Норова, приступая к изданию материалов к истории Петра Великаго и особенно в подробности дела Шакловитаго, 10 марта 1847 г. №41 обращалась к князю Александру ИвановичуБарятинскому с просьбою сообщить несколько свитков следственнаго дела о Шакловитом, находящихся в принадлежащем ему собрании.
Граф Виельгорский умер в 1839-м году, и его собрания перешли в собственность князя Барятинскаго. Эти собрания составляли в то время почтенную цифру 12 тыс. томов; но цифра эта не осуществляла ещё заветной мысли князя, желавшаго создать из своей библиотеки стройное целое, сделав её доступною для учёных изследователей. С этою целью он один из первых воспользовался предложением вдовы Гильфердинга и в начале 1873 года приобрёл библиотеку ея покойнаго мужа, состоявшую из 2700 слишком томов и заключавшую в себе обильные материалы сравнительнаго языкознания, истории и этнографии славянских народов. Но и этим значительным приращением покойный фельдмаршал ещё неудовольствовался. Уже с 1866 года не оставляла его мысль о приобретении одной из замечательнийших библиотек, составлявшей собственность поселившагося в Женеве Русскаго, г-на Касаткина. Веденные со вдовою его, в течение нескольких лет, переговоры увенчались наконец в 1874 году успехом, и библиотека, вмещавшая в себе 25 тыс. книг по разным отраслям науки, а также значительную коллекцию эстампов, была приобретена за 45 т. франков.
Таким образом, ценою больших усилий, настойчивости и пожертвований, составилась огромная библиотека из шестнадцати особых отделов в числе около 42 т. томов, приведённая в полный, стройный порядок и систему. После смерти фельдмаршала, библиотека, согласно его воле, досталась младшему его брату, которому он при жизни неоднократно передавал своё желание, чтобы она могла принести пользу учёному миру. Для достижения этой цели, в 1882 году было решено передать всю библиотеку в Московский Императорский Исторический и Румянцевский музеи в 25-летнее пользование с предоставлением права всем посещать её с научными целями, на общих правилах, существующих для публичных библиотек. Эта передача была окончательно произведена в Сентябре 1887 года.…
Князь Иван Иванович, как уже было упомянуто, скончался в 1825 году. Мысль его, выраженная в смертной воле, была направлена к учреждению заповедного имения. Воля его была принята вдовою и наследниками и утверждена последовательно тремя государями.
Первоначально князь Иван Иванович полагал образовать из половины всех его обширных имений маиорат в пользу старшего сына, а остальную половину разделить между прочими детьми; но в 1844 году все братья, приступив к исполнению мысли отца, решились образовать маиорат из всего имения в пользу старшего, Александра Ивановича, с тем, чтобы он обязался выплатить братьям за наследственные части определенные капиталы. Таким образом, князь Александр Иванович стал единоличным владельцем значительного, богатейшего имения.
В 1850 году, после шести лет пользования, он решился отказаться от своих прав в пользу второго своего брата, князя Владимира Ивановича, который был женат и имел уже сына. Подарок этот он сделал брату на Рождественскую елку, повесив на дерево записку о передачи маиората. Сам Александр Иванович объявил, что он не думает жениться, решился посвятить всю жизнь военной службе и не имеет никакой наклонности к деревенской жизни и сельскому хозяйству. Он говорил, что надеется сам, своими трудами на службе Государю и Отечеству, достигнуть высших степеней военной иерархии и получить право на соответственное обеспечение, родовое же имение, так прекрасно устроенное родителем, желает сохранить в целости в потомстве. Во всяком случае, это замечательное проявление широкой, щедрой его натуры. Передав состояние брату, он выговорил себе получить единовременно 100000 рублей, уплату его долгов на 136000 рублей, ежегодную ренту в 7000 рублей, уплату расходов на белье, сколько ему потребуется и, по мере надобности, один кашемировый халат. Какое отношение имело это последнее оригинальное требование, остается загадкой.
Все эти обязательства были весьма легки, если принять во внимание размеры состояния и громадные доходы, от него получаемые.[3]1…
[3] Впоследствии император Александр II, по ходатайству князя Александра Ивановича согласился на исключение лиц женского пола из права владения майоратом.
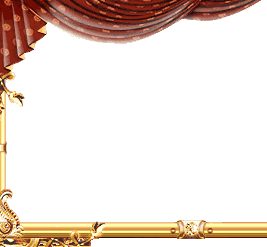
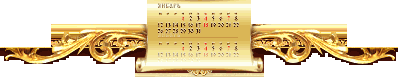
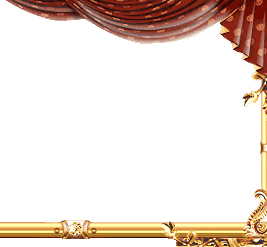





 T_Schustova
T_Schustova

 Утверждено
Утверждено

 О проекте
О проекте




Комментарии
ТАтьяна ! спасибо ! познавательно и поучительно . ВО многом согласна с приницами воспитания сына ! у меня 2 маленьких сына и я очень интересуюсь этой темой тожу :)